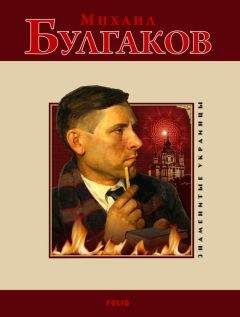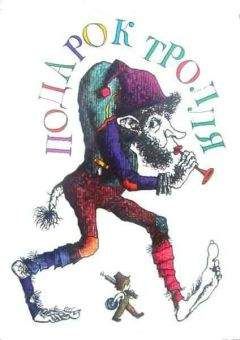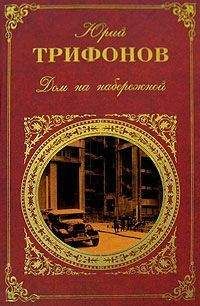Михаил Булгаков - Путешествие по Крыму
12 июня Булгаковы приехали в Коктебель, где находились почти месяц. В числе многочисленных волошинских гостей были Леоновы, Габричевские, Э. Ф. Голербах, пианистка М. А. Пазухина, поэт Г. А. Шенгели и многие другие. О том, что происходило в этот месяц в Коктебеле, можно судить по воспоминаниям Л. Е. Белозерской, И. А. Габричевской, Н. Л. Манухиной (жены Г. Шенгели) и письмам М. А. Пазухиной. Все они свидетельствовали о внешней стороне жизни в Коктебеле и развлечениях. Читая эти воспоминания, можно подумать, что Булгаков весь месяц исключительно отдыхал, путешествовал, ловил бабочек, собирал камушки, заигрывал с поварихой, подтрунивал над Леоновым и устраивал самодеятельный театр. Правда, только один раз проскользнуло в письме М. А. Пазухиной (18 июня): «...один писатель читал свою прекрасную вещь про собаку». Можно, конечно, догадаться, что читал «прекрасную вещь» Булгаков и что было это «Собачье сердце»...
Между тем при прощании Волошин подарил Булгакову свой сборник «Иверия» и неизбежную свою акварель с многозначительнейшими по содержанию дарственными надписями; на сборнике: «Дорогой Михаил Афанасьевич, доведите до конца трилогию „Белой гвардии"...», на акварели: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усобицы, с глубокой любовью...»
Такие надписи не делаются из вежливости. Очевидно, в Коктебеле Булгаков и Волошин кашли возможность обсудить волновавшие их темы. Ведь тот и другой испытали на себе все ужасы «русской усобицы» и оба запечатлели ее «душу». Запечатлели каждый по-своему, но в то же время во многом одинаково, если рассматривать эту «усобицу» как величайшую трагедию русского народа. И они прекрасно понимали, что трагедия эта еще далеко не исчерпала себя. Наверняка эти беседы оставили какие-то следы в их впечатлительных творческих душах. Во всяком случае, исследователи находят много родственного в поэзии о гражданской войне Волошина и в пьесе Булгакова «Бег» (см., например: Виленский Ю. Г. и др. Михаил Булгаков и Крым. Симферополь, 1995. С. 28—33). Нельзя не заметить также, что Булгаков полюбился Волошину и как писатель-единомышленник, и как человек с честнейшим взглядом на жизнь. Это видно из их дальнейшей переписки и из других сохранившихся документов. Так, 26 ноября 1925 г. в письме к писательнице С. З. Федорченко Волошин спрашивал: «Видаете ли Вы наших летних друзей: Леоновых, Булгаковых?.. Очень хотелось бы знать о них». Писатели вскоре ответили Волошину. Для материальной и моральной поддержки поэта и его гостеприимного дома в Коктебеле его московские друзья организовали 1 марта 1926 г. в Академии художественных наук (ГАХН) благотворительный литературно-музыкальный вечер, в котором приняли участие В. В. Вересаев, Б. Л. Пастернак, Ю. Л. Слезкин, С. В. Шервинский и многие другие. Булгаков с блеском прочитал на вечере «Похождения Чичикова». Благодарный Волошин направил всем участникам вечера по акварели. Булгакову он надписал так: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу! спасибо за то, что не забыли о Коктебеле. Ждем Вас с Любовью Евгеньевной летом. Максимилиан Волошин». Но этим не ограничился. 4 апреля он пишет Булгакову письмо, которое словно продолжает их «творческую беседу»: «Дорогой Михаил Афанасьевич, не забудьте, что Коктебель и волошинский дом существуют и Вас ждут летом. Впрочем, Вы этого не забыли, т. к. участвовали в Коктебельском вечере, за что шлем Вам глубокую благодарность. О литературной жизни Москвы до нас доходят вести отдаленные, но они так и не соблазнили меня на посещение севера. Заранее прошу: привезите с собою конец „Белой гвардии", которой знаю только 1 и 2 части, и продолжение „Роковых яиц". Надо ли говорить, что очень ждем Вас и Любовь Евгеньевну, и очень любим...» (см.: Купченко В., Давыдов 3. М. Булгаков и М. Волошин // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 422—423). 3 мая Булгаков откликнулся на приглашение: «Дорогие Марья Степановна и Максимилиан Александрович. Люба и я поздравляем Вас с праздником. Целуем. Открытку М. А. я получил, акварель также. Спасибо за то, что не забыли нас. Мечтаем о юге, но удастся ли этим летом побывать — не знаю. Ищем две комнаты, вероятно, все лето придется просидеть в Москве».
Догадывался ли Булгаков, что через несколько дней к нему нагрянут «гости» с Лубянки? Седьмого мая на квартире Булгакова сотрудники ОГПУ провели тщательнейший обыск, выискивая именно ненапечатанные рукописи... С этого момента Булгаков стал не только «опекаемым» этим зловещим учреждением, но и «приглашаемым» туда на допросы...
Волошин внимательно наблюдал за перипетиями вокруг Булгакова после премьер «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры», об этом ему сообщали многие его знакомые. «Страшный шум царит вокруг Булгакова...» — сообщал писатель Л. Е. Остроумов. «Жаль, что его писательская судьба так неудачна и тревожно за его судьбу человеческую», — сокрушалась О. Ф. Головина, дочь первого председателя Государственной думы. В начале 1927 г. Волошин сам прибыл в Москву (26 февраля состоялось открытие выставки его акварелей в ГАХН) и несколько раз встречался с Булгаковым (два раза был у него дома). Надо полагать, что речь шла и о творчестве, и о возможностях его реализации в «специфических» условиях. Трудно сказать, догадывались ли они о том, что впереди их ждут жестокие испытания...
* * *
При прочтении очерка «Путешествие по Крыму» неизбежно возникает вопрос: почему Булгаков сделал его несколько «легковесным», почему даже не упомянут Волошин, не говоря уже о беседах с ним? Да и некоторые «коктебельцы» были не очень довольны этим очерком. Так, Э. Ф. Голлербах в письме Волошину от 1 декабря 1925 г. сетовал на то, что в булгаковских фельетонах «больше рассуждений о превратностях погоды, чем о коктебельском быте».
Ответ на этот естественный вопрос, как ни странно, мы находим как раз в письмах Волошина Э. Голлербаху, опубликованных в историческом альманахе «Минувшее», № 17 (М.; СПб., 1994). Так, в письме от 24 июля 1925 г., то есть написанном по «горячим следам», говорится следующее:
«Дорогой Эрик Феодорович, ради Бога, убедите Лежнева не давать никакой статьи о Коктебеле, ибо это может быть губительно для всего моего дома и дела. У меня (вернее, у моего имени) слишком много журнальных врагов, и всякое упоминание его вызывает газетную травлю.
Не надо забывать, что вся моя художественная колония существует не „dejure", а попустительством, и ее может сразу погубить первый безответственный журнальный выпад, который, несомненно, последует за статьей обо мне или о Коктебельском Доме, особенно если она будет сочувственна... Всякое печатное упоминание о Коктебеле чревато угрозами его существованию...» (Там же. С. 312).
Нет ни малейших сомнений в том, что Волошин говорил об этом же и Булгакову, который, конечно, не мог скрыть от хозяина дома своих намерений напечатать очерки о путешествии по Крыму. Булгаков до мелочей выполнил все «установки» Волошина, не упоминая в очерке ни самого хозяина дома, ни его художественную колонию. Разумеется, «фельетоны» от этого во многом проиграли, стали менее сочными и выразительными, но Булгаков не мог подвести Волошина.
О реакции Волошина на булгаковский очерк пока ничего не известно, но если бы она была отрицательной, то он непременно сообщил бы об этом Голлербаху. В ноябре 1925 г. поэт, возвратившись к той же теме, писал Голлербаху: «Только к ноябрю наш дом опустел, и зимняя жизнь и ее ритм вошли в свои права... И еще мне хочется извиниться перед Вами за мое „veto" на Вашу статью о Коктебеле. Если бы дело шло о моей личности — то тут бы не могло быть никаких „veto" — я этого себе никогда не позволял и не позволю. Но „Волошинский Дом“ — это не я. А целый коллектив. Я посоветовался с друзьями и получил определенные инструкции: пусть лучше никто и ничего не пишет в печати — кто-нибудь подхватит, начнется травля и тогда не отстоите. Только поэтому я позволил себе просить Вас ничего не писать о Коктебеле. Хвалить и ругать одинаково опасно в этих случаях...» (Там же. С. 315).
Булгаковский очерк, в котором много говорилось о «превратностях погоды», никак не повредил Волошину. Был ли сам писатель доволен своим произведением?.. Но тут необходимо принимать во внимание и другие обстоятельства — Булгакова уже поглотили дела театральные и на фельетоны у него оставалось все меньше времени. И еще несколько слов о том, что привлекало Волошина в Булгакове и что сближало и роднило их. Очевидно — их «запрещенность». Ибо сам Волошин в течение многих лет жил под знаком «запрещенности». Вот что писал он по этому поводу в одном из писем в апреле 1925 г.: «В мае этого года исполняется 30 лет с тех пор, как было впервые напечатано мое стихотворение... Я это скрывал. Но в конце концов это просочилось, и мне пришлось дать согласие на публичное ознаменование этого... Что из этого выйдет, не знаю. Скорее всего новая литературная травля. Но трусить этого как-то непристойно. Вероятнее всего, что просто не дозволят никакого публичного чествования (празднование юбилея было перенесено на август. — В. Л.)... Что за „тридцатилетняя литературная деятельность", когда человек не может ни издать, ни переиздать ни одной своей книжки!» (Там же. С. 309). И далее читаем знаменательные слова: «У меня большая радость: профессор Анисимов прислал мне большую фотографию Владимирской Богоматери... И сейчас она стоит против меня и потрясает своим скорбным взволнованным ликом, перед которым прошла вся русская история. Кажется, что в нем я найду тот ключ, который мне даст дописать моего „Серафима"».