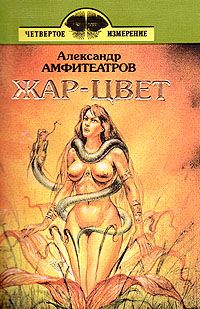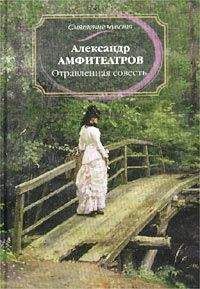Александр Амфитеатров - Жар-цвет
— Какая же это область? — спросил Дебрянский.
Гичовский помолчал.
— Я считаю, — медленно начал он, — совершенно доказанным — и каждая птица мне это подтверждает, — что по законам, действующим в рамке наших трех измерений, человек никогда не полетит. Стало быть, чтобы полететь, он сперва должен открыть, изучить и принять в свое сознание то неведомое четвертое измерение, которое он сейчас только смутно предчувствует. Открыть, изучить и принять в сознание — не как мистическую формулу шарлатанской науки спиритов, теософов и tutti guanti[7]. Мы обязаны превратить его в физический закон, пока еще тайный, но должный обнаружиться пытливою силою человеческого ума — подобно тому, как обнаружился ею закон земного притяжения, загадочного для людей до Ньютона и его современников не менее, чем для нас загадочно четвертое измерение. — Ну, знаете ли, есть разница.
— Вы думаете?
— Одно дело — стройная теория, ясная как день, в броне неопровержимых доказательств, другое — фантастическая гипотеза, которую кто-то назвал романтикою математики…
— Не знаю, не помню. В математике очень можно быть романтиком, и бывали удивительные романтики даже и помимо гипотезы четвертого измерения. Лобачевский, Остроградский, Гаусс, Риман — конечно, в высшей степени романтические головы… Может быть, именно потому они и были великими математиками. А что касается теории, ясной как день, хорошо нам с вами разговаривать так-то, двести с лишком лет спустя после того, как она завоевала себе мир и подчинила науку. А прочитайте-ка, что в свое время писал Лейбницу об идеях Ньютона Гюйгенс. "Мысль Ньютона о взаимном притяжении, — громил он, — я считаю нелепою и удивляюсь, как человек, подобный Ньютону, мог сделать столько трудных исследований и вычислений, не имеющих в основании ничего лучшего, как подобную мысль". Сейчас эти слова звучали бы бессмысленно и дико для слуха даже в устах невежды, едва тронутого элементарною школою. А в XVII веке они гремели авторитетом из уст самостоятельного ученого, который соорудил удивительнейшие объективы, открыл при помощи их туманность Ориона, одного из спутников, и кольцо Сатурна, изобрел часы с маятником и спиральною пружиною, оставил блестящий след в геометрии, механике, астрономии… У нас в России о "воображаемой геометрии" Лобачевского десятки лет говорилось с улыбкою снисходительного сожаления: дескать, пукктик гениального человека, у которого ум за разум зашел от полетов в наиотвлеченнейшие сферы в наиотвлеченнейшей из наук. Между тем, другие труды Лобачевского отошли ныне на второй план, а "воображаемая геометрия" заняла прочное и почетное место в истории науки. Нашел ли он новую идею? Нет. Потому что его "воображаемая геометрия" имела предшественницу в астральной геометрии Швейггарда, Гаусс проповедовал те же убеждения еще в конце XVIII века, понятие "абсолютного пространства" принимал Иммануил Кант и соприкасался в нем с Берклеем…
Вся заслуга гениального Лобачевского — Колумбова: открытие самостоятельного входа в новую область — нового плана причинной схемы, снова отодвинувшей от познавательной энергии человеческой ту роковую, зловещую границу, которая возвещает капитуляцию пред априорностью, на которую рано или поздно натыкаются в поиске причин-ностей даже самые могучие и неистощимые умы человеческие, фатум, который обязателен даже для Кантов, Шопенгауэров, Гельмгольцев… Четвертое измерение опошлено обывательскою болтовнёю, чудес ищущей… Что оно? Какая-то встреча времени с пространством, какое-то превращение материи в энергию… Математики этих загадок не боятся. Риман рассматривал каждый материальный атом как вступление четвертого измерения в пространство трех измерений. Мир для него был океаном вещества, которое постоянно течет в весомые атомы, и то место, где мир умственный вступает в мир телесный, определяет собою вещественные тела… Сейчас это место постигается умозрительно. Надо сделать его постижимым, чувственным Вот и все.
— Не мало.
— Да, много, но не безнадежно. Наука трудно находит тропы свои, а раз нашла, шагает по ним быстро. Ей понадобилось две тысячи лет, чтобы выбиться из повелительных оков спиритуализма, но едва она выбилась, и — уже четверть века спустя — показывала "душу" под микроскопом!
II
Новый знакомый очень понравился Дебрянскому. Он чувствовал, что сдружится с Гичовским, и был очень доволен, что судьба послала ему навстречу такого опытного и бывалого путешественника. Но странный разговор несколько расстроил его и, когда граф откланялся и ушел в свой отель, Дебрянский долго еще сидел в кафе, погруженный в довольно мрачные мысли. Вопреки своей богатырской внешности, Алексей Леонидович странствовал не совсем по доброй воле: врачи предписали ему провести, по крайней мере, год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами, в качестве знатного иностранца, и не хотел, и не мог.
Неожиданно свалившись с серой московской Плющихи на сверкающий Корфу, где вечно синее небо, как опрокинутая чаша, переливается в вечно синее море, Алексей Леонидович, сказать правду, изрядно-таки скучал. Человек он был — Гичовский верно его угадал — самый московский: сытый, облененный легкою службой и холостым комфортом, сидячий, постоянный и не мечтающий. И смолоду пылок не был, а к тридцати пяти годам вовсе разучился понимать беспокойных шатунов по белому свету, охотников до сильных ощущений, новостей природы и экзотических необыкновен-ностей. Взамен бушующих морей, горных вершин, классических развалин и мраморных богов такому, как он, русскому интеллигенту отпущены: мягкая кушетка, пылающий камин, интересная книга и восприимчивое воображение.
— Совсем нет надобности переживать сильные ощущения лично, — говорил он, — если можно их воображать, не выходя ни из душевного равновесия, ни из комнаты и притом вчуже… ну, хоть по Пьеру Лога или Гюи де Мопассану. Подставлять же под всякие страхи и неудобства свою собственную шкуру — страсть для меня совершенно непонятная. Отсутствие душевного равновесия и комфорта не в состоянии вознаградить никакая красота.
Он не переменил своих взглядов теперь пред дивным величием Ионического моря.
— Красиво, — думал он, — но воображение создает красоту… не то чтобы лучше, а — как бы сказать — уютнее, что ли…
И глубоко сожалел о своем московском кабинете, камине, кушетке, о службе, о своих книгах и друзьях, обо всем, во что сливался для него север.
— В гостях хорошо, — втайне признавался он, — а дома лучше, и если бы я мог, то сейчас бы вернулся. Совсем не к лицу мне Корфу это… Все праздник и праздник в природе — будней хочется… Но я не могу и, должно быть, мне никогда уже не быть дома… Никогда, никогда!
Он уехал из Москвы, ни с кем не простясь, безрасчетно порвав с выгодною службой, бросив оплаченную за год вперед квартиру, не устроив своих дел… Словом, это было не путешествие, но бегство. Не от врагов и не от самого себя: первых у него не было, совесть же его была — как у всякого среднего человека — обывательская: нечем ни особенно похвалиться, ни особенно мучиться.
Что он болен, Дебрянский по выезде из Москвы никому не признавался и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя соответственно праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развилась на весьма обыкновенной почве.
Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых беспардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша Первопрестольная. Психоз Петрова, возникнув на люэтической почве, вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного.
Незадолго перед тем у него завязался роман с одною опереточною певицею, настолько серьезный, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов…
Однажды, возвратясь домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход оказался тоже заперт, а покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился — подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домоправительница Петрова, Анна Перфиль-евна, услала их из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали дверь и в рабочем кабинете Петрова, на ковре нашли Анну мертвою, с раздробленным черепом; она застрелилась из пистолета, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка: "Прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям". Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как во время одной блестящей своей защиты в провинции он сманил эту несчастную — простую перемышльскую мещанку, Что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе, Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было — как видно — перед смертью, но не конченную. "Что ж? женитесь, женитесь… а я вас не оставлю, не оставлю"… — писала покойная и — больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросало кляксы.