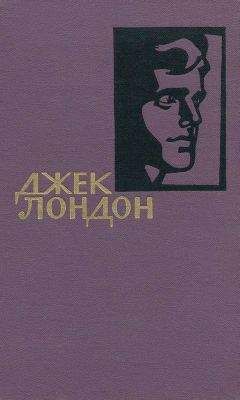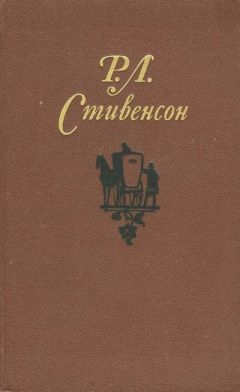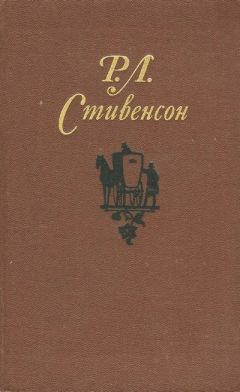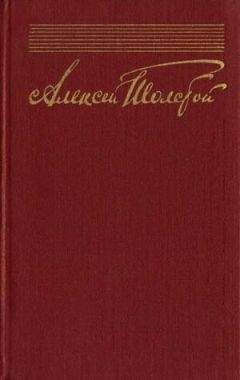Сергей Толстой - Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.1
…Еще дальше вторая церковь; та совсем розовая, как топленым молоком, ее густо обливает закат, и солнце зажгло на ней крест над синеватыми смутными купами дальнего леса…
А за ближним лесом, по дороге, по которой никто не приехал, под вечер стали слышны песни, крики мальчишек, собачий лай; они доносятся, приглушенные расстоянием, но отчетливые в тихом вечернем воздухе — там тоже творится какая-то жизнь, своя, отдельная; нам она, как и мы ей, не мешает. Всюду все хорошо. Хорошо и спокойно. Будет спокойная и теплая ночь…
Однако пора. Скоро начнется на поле туман, а туман для ребенка вреднее всего. «Так еще бабушка наша с тобой говорила», — подтверждает сестра, торопясь уходить. Над головами висят комары. От них и дома не скроешься. Не помогут железные частые сетки в раскрытых окнах. Найдут щелочки, продавлинки, проберутся в комнаты, залезут под полог, будут всю ночь изводить надсадным, назойливым писком, чтобы только под утро тяжело улететь к потолку с переполненным красным брюшком…
Вот так ходим, ходим, да вдруг кто-нибудь и приедет. Сперва, как обычно, на дороге покажется облачко пыли; оно все ближе и ближе покатится к нам, и вдруг сразу нахлынут смех, поцелуи, чудесные запахи конского пота, чужих чемоданов, духов и железной дороги. И вот я, чуть-чуть обалдев от стремительности налетевших событий, лечу, упираясь ногами в какой-то портплед, за конским хвостом, расчесанным ветром; бубенчик звенит под дугой, и небо стремится навстречу, со всеми своими паутинками облаков, со всей своей синевой. Молчу, с перехваченным дыханьем — от скорости бега, от ветра или от волненья? Наверное, ото всего понемногу.
Жизнь изменяется круто. Приезжие приспособляются к ритму, царящему в доме. Пребывающие постоянно — к ритму, невольно привносимому приезжими. Сдвигается время чаев и обедов: все происходит немного позднее обычного. Гостям показывают все, что полагается показать. Тете Маше — сестре отца — новые, выписанные из садоводства розы, перепланировки в саду, тете Кате — маминой сестре — поросят, телят, огород, оранжерею, ну, словом, хозяйство. С дядюшками идут разговоры, в которых мне все непонятно; они — с отцом в его кабинете; оттуда доносятся чьи-то фамилии: Трепов, Столыпин, Гучков или Стессель да Витте. Туда пробравшись, сижу, забившись с ногами в самый темный угол дивана, и слушаю. «Ты бы пошел, поиграл, ну что тебе здесь интересного», — сказали и тут же забыли. Прямого приказа ведь не было, поиграть же всегда я успею. Здесь же, судя по всему, вот-вот решится и произойдет что-то самое важное. Сижу и таращу глаза, чтобы мне не уснуть, чтобы не пропустить. Где-то дали по шее министру, банк лопнул, чьи-то наследники все капиталы пустили по ветру, и вылетел местный заводчик в трубу; что-то в этом тревожно-азартное: ипотека, аграрный вопрос, экспертиза — не поймешь, с Варей Паниной было привычней и проще…
В саду, возле пруда, играют приезжие дети — тети Машины старшие — Коленька с Машенькой. Они много взрослее меня. Им, наверное, лет уже десять-двенадцать, не меньше. Зато и играют в опасных местах, возле самого пруда, куда мне приближаться — строжайший запрет. На расщепленных тонких лучинках они пишут названия кушаний. После эти лучинки вставляются в дощатые стены купальни. Ниже, на лавочке, листья кленовые в образцовом порядке разложены; на листьях пирожки из сырого песка, жаркое с гарниром горошка мышиного; здесь шишки и желуди — больше не шишки, не желуди, а артишоки или ананасы. У одного магазин, а другой приходит к нему покупателем. Они в гости приходят друг к другу. Друг друга они угощают и благодарят очень вежливо. Примерные, тихие дети. Они уже знают, что это нарочно такая игра у них. Я же еще не созрел для участия в этих таинственных действах и, выпровоженный наконец из отцовского кабинета, им только мешаю. Впрочем, у меня и своих дел достаточно. Каждая кривая палочка мне — велосипедный руль; держа такой руль перед собою, бегаю по дорожкам, часто перебирая ногами. Собираю под дубом желуди. Никакие они мне не ананасы. Они сами по себе удивительно интересные — гладкие, зелененькие или коричневые, с замечательной крохотной чашечкой сверху. Застываю от изумления перед черным мохнатым червяком с ярко-алыми пятнышками среди торчащих темных ворсинок. Он выгибается, подтягивается и переползает с травинки на листик, с листка на другую травинку. Дотронуться — страшно. Смотреть — любопытно. Надо пересадить его на кленовый лист и отнести спросить кого-нибудь, какая бабочка из него получится, если положить его в коробочку, чтобы в ней он окуклился в куколку. Необычности подстерегают повсюду: то это бабочка, которую хочется догнать, то цветной камушек, то жужелица, оставляющая на ладони свой характерный мускусный запах, то скорлупка от птичьих яичек лежит под гнездом, обнаруживая местопребывание малышей, раскрывающих огромные, больше голов, желтоватые клювики. Если же кажется, что все исчерпано и больше заняться мне нечем, дело старших меня занимать. У той же Аксюши немало испытанных средств. Например, положив меня на свое серебристо-плюшевое одеяло, она, взяв его за концы, умеет так раскачать, что я то взлетаю, то вниз стремительно падаю в одеяльной густой темноте; впрочем, это, в сущности, жутко и не так уж совсем интересно. То мы строим с ней волшебные сады с дорожками и клумбами из разноцветной бумаги, на которых размещаем прогуливающихся игрушечных зверюшек. То примется она рассказывать сказки. Сказка любимая наша с ней — про Емелю. Все в ней вполне убедительно: и что печка там по деревне ходила, и что возила Емелю на речку за водой. Одно лишь не ясно: как это Емеля сам жил на той печке и где умещался. Русской печки я в жизни не видел, а наши, голландские, изразцовые доверху печи, упиравшиеся в потолки, не приспособлены были для проживанья Емели. Места ему предусмотрено не было. Емеля скучал и томился. Сюжет повисал в не воплощенном в условия быта словесном тумане.
Другая же сказка — про Машеньку и про волков. Эту сама-то Аксюша нетвердо запомнила. Волки то оставались волками, а иногда почему-то превращались в разбойников. Разбойники-волки караулили Машеньку, сидя в подполье. Видимо, тут смешалось по крайней мере две разных сказки. Мои леопарды и львы были очень сродни такой ситуации, и Машенькины кошмары, когда открывалось, что в своей светелке она не одна, были мне очень близки. Конца, сколько помню, как и у снов, у сказки этой не было.
Здесь же я очень остро и ярко пережил первую мною зажженную спичку. С огнем баловство, разумеется, было запретным. Однако нередко, охваченный каким-то сладострастием непослушанья, я бросался в бездну падений и, сам себе ужасаясь, остановиться уже не умел. Так вот, однажды, балуясь с коробкой спичек, я извлек оттуда одну. Это вызвало в Аксюше законный ужас. От «стихий» меня все берегли. От огня и воды полагалось «ребенка» держать по возможности дальше. Преследуемый по пятам, я убежал в коридор. Чиркнул раз и два — спичка не загоралась. Аксюша меня настигала, я чиркнул еще, и вдруг — спичка вспыхнула. От испуга я тотчас все выронил на пол. Небывалое чудо свершилось!
А немного позднее я сжег любимую старую куклу свою Акулину. Она очень долго разгуливала в своем красном платье по «волшебным садам» и терпеливо слушала и про Машеньку, и про Емелю, удивленно приподняв насурмленные брови на плоском тряпичном лице. Характер у нее был отличный: она выносила безропотно все невзгоды, не чуя, как видно, что смерть к ней близка… Как-то, шаля, я схватил ее за руку и подтащил к раскрытой топившейся печи. Мне и в голову не приходила мысль бросить в печь Акулину. Но сзади послышался голос Аксюши: «Ну, куда понес, спалишь вот, того гляди, куклу-то. Ты не вздумай, смотри!» Я и не собирался «палить», но Аксюша удивительно умела «предупреждать события», подзадоривая к их совершению. Я шутя замахнулся.
— Вот, вот, так вот, так я и знала. Сейчас перестань! Отойди же, кому говорят?
Как же тут отойти? Я руку отвел еще дальше, шутя замахнулся, и стало настолько невозможно отказаться и не услышать новый негодующий возглас на самой кульминационной из всех доселе услышанных нот, что Акулина, совершив короткий перелет, угодила-таки на аутодафе. Насаженные на длинные тонкие лучинки, у жаркого пламени зарумянивались смазанные сливочным маслом гренки — ломтики белого хлеба к моему чаю. Эти гренки с их хрустящей промасленной корочкой я очень любил, но теперь было мне не до них. Я думал, что Аксюша бросится и спасет Акулину из пламени. Но она почему-то не двигалась, только твердила, что напрасно меня все так любят, вот сделали куклу, а я эту куклу — спалил! Во всем этом заключалось ужасное мне наслажденье. Я стоял в закипавших слезах, познавая мрачный восторг от неизмеримой глубины необратимого больше паденья.
Затем, убежав, я оплакал себя, тех, кто любит меня и сделал мне куклу, и самую куклу, которая так и сгорела, отравив скверным запахом тлеющих тряпок гренки, воздух в комнате, день — вообще все на свете. Исступленною мрачностью переживаемого отчаяния я довел себя до какого-то экстаза, упиваясь впервые открывшейся передо мною безмерностью собственной гнусности. Часто в детстве и после мне случалось бродить по краям этой бездны, калечившей душу. Лишь много спустя, наконец, удалось (удалось ли?) мне стать навсегда свободным от этаких вот состояний. Ужасные были минуты…