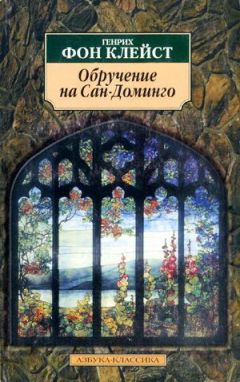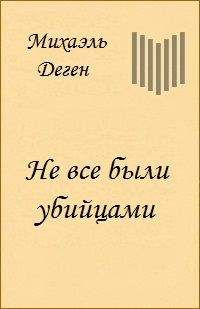Генрих Клейст - Михаэль Кольхаас
Едва амтман закрыл за собою дверь, Лисбет пала на колени перед мужем.
— Если ты еще не изгнал из своего сердца меня и детей, которых я родила тебе, — вскричала она, — если мы еще не навек отторгнуты от него, не знаю уж, за какие грехи, то объясни мне, что означают эти страшные приготовления?
— Любимая моя жена, — отвечал Кольхаас, — пусть ничто тебя сейчас не тревожит. Мне прислали судебное решение, и оно гласит, что моя жалоба на юнкера Венцеля фон Тронка не более как грязная кляуза. Конечно же, это плод недоразумения, и я решил сызнова подать жалобу прямо в руки государя.
— Зачем ты продаешь свой дом? — крикнула она, поднимаясь и ломая руки.
Барышник, любовно прижав ее к своей груди, отвечал:
— Затем, милая моя Лисбет, что я не могу жить в стране, которая не защищает моих прав. Если топчут тебя ногами, лучше быть псом, нежели человеком! И я уверен, что моя жена думает так же.
— Почем ты знаешь, — в отчаянии спросила она, — что твои права не будут ограждены? Почем ты знаешь, что твое прошение отшвырнут в сторону, если ты скромно, как тебе подобает, приблизишься с ним к государю, почем ты знаешь, что тебя откажутся выслушать?
— Что ж, — отвечал Кольхаас, — если мои опасения безосновательны, так ведь и дом мой еще не продан. Государь справедлив, это я знаю; если я сумею пробиться к нему через тех, кто его окружает, я, без сомнения, обрету свои права и еще до конца недели радостно возвращусь домой — к тебе, к старым своим занятиям. И уж тогда, — добавил он, целуя Лисбет, — до конца жизни буду с тобой! Но я должен быть готов ко всему и считаю желательным, чтобы ты, если это возможно, на некоторое время удалилась; возьми детей и поезжай к тетке в Шверин[12] — ты ведь давно собиралась ее навестить.
— Как? — вскричала Лисбет. — Мне ехать в Шверин? С детьми ехать через границу в Шверин? — Ужас перехватил ей горло.
— Вот именно, — сказал Кольхаас, — и притом немедленно, чтобы я мог без помехи предпринять шаги, необходимые для моего дела.
— О, я понимаю тебя! Тебе сейчас не нужно ничего, кроме коней и оружия; все остальное пусть забирает кто хочет! — Она зарыдала и бросилась в кресло.
— Что с тобой, моя дорогая Лисбет? Господь благословил меня женой, детьми и богатством; неуж-то же сегодня я вдруг пожелал, чтобы ничего этого у меня не было?
Он подсел к ней, а она, покраснев от слов мужа, упала в его объятия.
— Скажи, — говорил Кольхаас, откидывая кудри с ее чела, — что же мне делать? На всем поставить крест? Явиться в Тронкенбург, попросить, чтобы рыцарь вернул мне коней, вскочить на одного из них и мчаться домой, к тебе?
Лисбет не отваживалась сказать: да! да! да! — она, рыдая, качала головой, прижимала его к себе, страстными поцелуями осыпала его грудь.
— Ну вот, Лисбет, — воскликнул Кольхаас, — ты поняла, что если я хочу продолжать свой промысел, то мои права должны быть ограждены; так предоставь же мне свободу, необходимую, чтобы постоять за них. — С этими словами он поднялся и сказал конюху, пришедшему доложить, что рыжий жеребец оседлан: — Завтра надо будет запрячь караковых — отвезти хозяйку в Шверин.
Вдруг Лисбет объявила, что ей в голову пришла отличная мысль. Она встала, вытерла слезы и спросила мужа, усевшегося было за конторку, не позволит ли он ей поехать вместо него в Берлин, дабы вручить прошение государю.
Кольхаас, по многим причинам растроганный предложением Лисбет, усадил ее к себе на колени и стал говорить:
— Дорогая моя жена, увы, это невозможно. Государя окружает плотная стена придворных, и немало трудностей придется преодолеть тому, кто вздумает к нему приблизиться.
Лисбет возразила, что женщине дойти до государя проще, чем мужчине.
— Дай мне прошение, — повторила она, — и если тебе одно только нужно — знать, что бумага у него в руках, клянусь, он ее получит!
Кольхаас, не раз имевший случай убедиться в ее отваге и уме, спросил, как же она думает это устроить. Лисбет, стыдливо потупившись, отвечала, что кастелян курфюрстова двора, в свое время служивший в Шверине, сватался к ней, и хотя он теперь человек женатый и отец многочисленного семейства, но ее еще не вовсе позабыл, одним словом, она уж сумеет извлечь пользу из этого обстоятельства и ряда других, о которых сейчас, право, нет времени распространяться. Кольхаас с большой радостью поцеловал жену и согласился на ее предложение, объявив, что ей достаточно будет остановиться у жены кастеляна, чтобы обеспечить себе доступ во дворец, отдал прошение, велел закладывать караковых, поудобнее усадил ее в карете и приказал Штернбальду, верному своему конюху, сопровождать хозяйку.
Много безуспешных шагов предпринял Кольхаас в своем злополучном деле, но несчастнейшим из них оказалась эта поездка. Ибо уже через несколько дней Штернбальд вернулся домой, медленно ведя под уздцы лошадей, тянувших экипаж, в котором с проломленной грудью лежала его хозяйка. Кольхаас, бледный как полотно, ринулся к ней, но толком так и не узнал, из-за чего произошло несчастье. Кастеляна не оказалось дома, рассказывал конюх; они были вынуждены остановиться на постоялом дворе, неподалеку от дворца. На следующее утро Лисбет ушла, приказав Штернбальду оставаться при лошадях, и вернулась лишь к вечеру уже в этом плачевном состоянии. Похоже, что она слишком дерзко пробивалась к особе государя и один из не в меру ретивых стражников ударил ее в грудь древком своей пики. Так, во всяком случае, говорили люди, вечером принесшие ее в беспамятстве на постоялый двор; сама она почти не могла говорить, ибо кровь текла у нее изо рта. Прошение из рук Лисбет спустя некоторое время взял какой-то рыцарь, сказал Штернбальд и добавил, что хотел тотчас же скакать домой с прискорбной вестью, но Лисбет, вопреки настояниям призванного к ней хирурга, потребовала, чтобы ее отвезли к мужу в Кольхаасенбрюкке, ни о чем заранее его не оповещая. Кольхаас перенес ее, вконец изнемогшую от дороги, на постель, и Лисбет, мучительно ловя ртом воздух, прожила еще несколько дней. Попытки вернуть ей сознание, чтобы узнать от нее, как случилось это несчастье, ни к чему не привели; она лежала недвижимая, с остановившимся и уже отсутствующим взором. Только перед самой смертью сознание вернулось к ней. Когда у ее постели уже стоял священник лютеранской веры (к этой только что возникшей религии[13] она примкнула по примеру мужа) и громким прочувствованно-торжественным голосом читал из Библии, она устремила на священника затуманенный взор, взяла у него из рук книгу, словно не хотела слушать, и долго-долго ее листала, что-то ища, затем пальцем показала Кольхаасу, сидевшему у ее изголовья, стих: «Прости врагам твоим; делай добро и тем, что ненавидят тебя». Проникновенно посмотрела на него и скончалась.
«Пусть господь никогда не простит меня, как я никогда не прощу юнкера Тронка», — подумал Кольхаас, поцеловал ее — слезы безудержно лились по его лицу, — закрыл ей глаза и вышел из горницы.
Он взял те сто золотых гульденов, которые амтман заплатил ему за дрезденские конюшни, и заказал похороны, подобающие скорее владетельной княгине, чем бедной Лисбет: дубовый гроб, щедро обитый металлом, шелковые подушки с золотыми и серебряными кистями и могила глубиной в восемь локтей, выложенная булыжниками, скрепленными известью. Сам он стоял возле ямы, держа на руках своего меньшенького, и наблюдал за могильщиками. В день похорон тело Лисбет в белоснежных одеждах было положено в зале, обитом по приказанию Кольхааса черным сукном. Едва священник договорил свое растроганное напутствие, как Кольхаасу принесли ответ на прошение, поданное покойной. Ответ гласил: ему надлежит забрать лошадей из Тронкенбурга и под угрозой тюремного заключения больше по этому делу жалоб не подавать. Кольхаас сунул письмо в карман и велел нести гроб на катафалк. Когда могила была засыпана землей и увенчана крестом, когда разошлись гости, съехавшиеся на похороны, он еще раз упал на колени перед ее навеки опустелым ложем и затем приступил к делу возмездия.
Кольхаас сел за свою конторку и в силу права, дарованного ему самой природой, написал приговор, обязывающий юнкера Венцеля фон Тронка в трехдневный срок, считая с проставленной даты, привести вороных, отнятых им у барышника Кольхааса и заморенных на полевых работах, в конюшни Кольхаасенбрюкке и самолично откармливать, покуда они не приобретут прежней стати. Эту бумагу он отослал с верховым, приказав ему тотчас же после вручения скакать обратно, в Кольхаасенбрюкке. Когда три дня истекли, а о лошадях не было ни слуху ни духу, он позвал Херзе и открыл ему свой замысел, — принудить юнкера откармливать вороных в его, Кольхааса, конюшнях, потом задал ему два вопроса: согласен ли Херзе ехать вместе с ним в Тронкенбург и увезти оттуда юнкера; и еще: если увезенный юнкер будет лениво работать в здешних конюшнях, согласен ли он поощрять его кнутом. И так как Херзе, едва до него дошел смысл этих слов, крикнул: «Да хоть сейчас, хозяин!» — подбросил в воздух шапку и радостным голосом сказал, что велит сплести себе ременную плетку о десяти узлах, — тут-то уж юнкер научится коней скребницей чистить, — то Кольхаас продал дом, усадил детей в карету и отправил их через границу в Шверин, а когда спустилась ночь, кликнул своих конюхов, семь человек, преданных ему душой и телом, роздал им оружие, коней и поскакал в Тронкенбург.