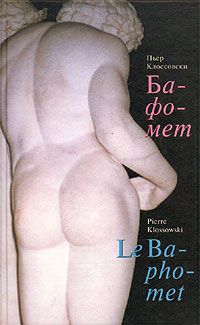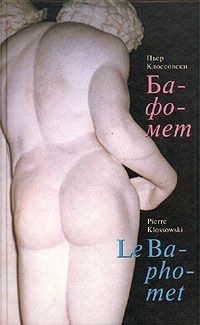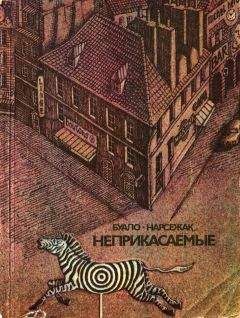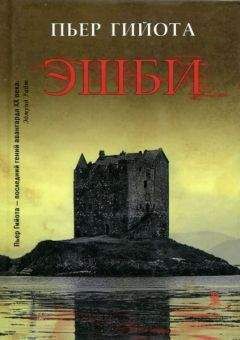Ги Мопассан - Пьер и Жан
Мания разыгрывать из себя моряка постоянно подстрекала Ролана-отца расспрашивать новую приятельницу об умершем капитане, и она спокойно говорила о нем, о его путешествиях, о его рассказах, как покорившаяся судьбе рассудительная женщина, которая любит жизнь и с уважением относится к смерти.
Оба сына, возвратившись домой и увидев хорошенькую вдову, часто навещавшую их, тотчас же стали за нею ухаживать, не столько из желания понравиться ей, сколько из чувства соперничества.
Матери, женщине осторожной и практичной, очень хотелось, чтобы один из них добился успеха, — молодая вдова была богата, — но она желала, чтобы другой сын не был этим огорчен.
Госпожа Роземильи была блондинка с голубыми глазами, с венком непокорных завитков, разлетавшихся при малейшем ветерке; во всем ее облике было что-то бойкое, смелое и задорное, что отнюдь не соответствовало уравновешенному и трезвому складу ее ума.
Она, казалось, уже отдавала предпочтение Жану, к которому ее влекло сходство их натур. Правда, предпочтение это проявлялось только в едва заметных оттенках голоса, в дружелюбных взорах и в том, что она нередко прибегала к его советам.
Она, казалось, угадывала, что мнение Жана только подкрепит ее собственное, между тем как мнение Пьера неизбежно окажется противоположным. Говоря о взглядах доктора, об его политических, моральных, артистических, философских воззрениях, ей случалось называть их: «Ваши бредни!» Тогда он смотрел на нее холодным взором судьи, обвиняющего женщин, всех женщин, в духовном убожестве.
До приезда сыновей старик Ролан ни разу не приглашал г-жу Роземильи на рыбную ловлю и никогда еще не брал с собою жены; он любил выходить в море до восхода солнца, со своим другом Босиром, отставным капитаном дальнего плавания, с которым познакомился в порту в час прилива, и со старым матросом Папагри, по прозвищу Жан-Барт[27], смотревшим за лодкой.
Но как-то вечером, неделю тому назад, г-жа Роземильи, обедая у Роланов, спросила: «А это очень весело, ловить рыбу?» — и бывший ювелир, охваченный желанием заразить гостью своей манией и обратить ее в свою веру, воскликнул:
— Не хотите ли поехать?
— Хочу.
— В будущий вторник?
— Хорошо.
— А вы способны выехать в пять утра?
Она вскрикнула в изумлении:
— Ах, нет, нет, что вы!
Он был разочарован, его пыл угас, и он сразу усомнился в ее призвании рыболова. Тем не менее он спросил:
— В котором же часу вы могли бы отправиться?
— Ну… часов в девять.
— Не раньше?
— Нет, не раньше, и то уж слишком рано!
Старик колебался. Конечно, улов будет плохой, ведь как только солнце начинает пригревать, рыба больше не клюет; но оба брата настояли на том, чтобы тут же окончательно обо всем условиться.
Итак, в следующий вторник «Жемчужина» стала на якорь у белых утесов мыса Гэв. До полудня удили, потом подремали, потом снова удили, но ничего не попадалось, и старику Ролану пришлось наконец понять, что г-же Роземильи хотелось, в сущности, только покататься по морю. Когда же он убедился, что лесы больше не вздрагивают, у него и вырвалось энергичное «ах, черт!», одинаково относившееся и к равнодушной вдове, и к неуловимой рыбе.
Теперь Ролан рассматривал свой улов с трепетной радостью скупца. Но вот, подняв глаза к небу, он заметил, что солнце начинает садиться.
— Ну, дети, — сказал он, — не пора ли домой?
Братья вытащили из воды лесы, смотали их, вычистили крючки, воткнули их в пробковые поплавки и приготовились.
Ролан встал и, как подобает капитану, оглядел горизонт.
— Ветер спал, — сказал он, — беритесь за весла, дети!
И вдруг, показав на север, добавил:
— Глядите-ка, пароход из Саутгемптона.
Вдали, на розовом небе, над спокойным морем, гладким, как необъятная голубая блестящая ткань с золотым и огненным отливом, поднималось темноватое облачко. А под ним можно было разглядеть корабль, еще совсем крохотный на таком расстоянии.
На юге виднелось немало других столбов дыма, и все они двигались к едва белевшему вдалеке гаврскому молу, на конце которого высился маяк.
Ролан спросил:
— Не сегодня ли должна прийти «Нормандия»?
Жан ответил:
— Да, папа.
— Подай-ка подзорную трубу; думается мне, что это она и есть.
Отец раздвинул медную трубу, приставил ее к глазу, поискал корабль на горизонте и, обнаружив его, радостно воскликнул:
— Да, да, это «Нормандия», никаких сомнений. Не хотите ли посмотреть, сударыня?
Госпожа Роземильи взяла трубу, направила на океанский пароход, но, видимо, не сумела поймать его в поле зрения и ничего не могла разобрать, ровно ничего, кроме синевы, обрамленной цветным кольцом вроде круглой радуги, и каких-то странных темноватых пятен, от которых у нее закружилась голова.
Она сказала, возвращая подзорную трубу:
— Я никогда не умела пользоваться этой штукой. Муж даже сердился; а сам он способен был часами простаивать у окна, рассматривая проходящие мимо суда.
Старик Ролан ответил не без досады:
— Тут дело в каком-нибудь недостатке вашего зрения, потому что подзорная труба у меня превосходная.
Затем он протянул ее жене:
— Хочешь посмотреть?
— Нет, спасибо, я наперед знаю, что ничего не увижу.
Госпожа Ролан, сорокавосьмилетняя, очень моложавая женщина, несомненно, больше всех наслаждалась прогулкой и чудесным вечером.
Ее каштановые волосы только еще начинали седеть. Она казалась такой спокойной и рассудительной, доброй и счастливой, что на нее приятно было смотреть. Как говорил ее старший сын, она знала цену деньгам, но это ничуть не мешало ей предаваться мечтаниям. Она любила романы и стихи не за их литературные достоинства, но за ту нежную грусть и задумчивость, которую они навевали. Какой-нибудь стих, подчас самый банальный, даже плохой, заставлял трепетать в ней, по ее словам, какую-то струнку, внушая ей ощущение таинственного, готового осуществиться желания. И ей приятно было отдаваться этим легким волнениям, немного смущавшим ее душу, в которой обычно все было в таком же порядке, как в счетной книге.
Со времени переезда в Гавр она довольно заметно располнела, и это портило ее фигуру, некогда такую гибкую и тонкую.
Прогулка по морю была большой радостью для г-жи Ролан. Ее муж, человек вообще незлой, обращался с ней деспотически, с той беззлобной грубостью, с какой лавочники имеют обыкновение отдавать приказания. Перед посторонними он еще сдерживал себя, но дома распоясывался и напускал на себя грозный вид, хотя сам всего боялся. Она же из отвращения к ссорам, семейным сценам и бесполезным объяснениям всегда уступала, никогда ничего не требовала. Уже давно она не осмеливалась просить Ролана покатать ее по морю. Поэтому она с восторгом встретила предложение о прогулке и теперь наслаждалась нежданным и новым для нее развлечением.
С самого отплытия она душой и телом отдалась отрадному чувству плавного скольжения по воде. Она ни о чем не думала, ее не тревожили ни воспоминания, ни надежды, и у нее было такое ощущение, будто сердце ее вместе с лодкой плывет по чему-то нежному, струящемуся, ласковому, что укачивает ее и усыпляет.
Когда отец отдал команду: «По местам, и за весла», — она улыбнулась, глядя, как ее сыновья, оба ее взрослых сына, скинули пиджаки и засучили рукава рубашек.
Пьер, сидевший ближе к обеим женщинам, взял весло с правого борта, Жан — с левого, и оба ждали, когда их капитан крикнет: «Весла на воду!» — потому что старик требовал, чтобы все делалось точно по команде.
Разом опустив весла в воду, они откинулись назад, выгребая что было мочи, и тут началась ожесточенная борьба двух соперников, состязающихся в силе. Утром они вышли в море под парусом, не торопясь, но теперь ветер стих, и необходимость взяться за весла пробудила в братьях самолюбивое желание потягаться друг с другом в присутствии молодой красивой женщины.
Когда они отправлялись на ловлю одни со стариком Роланом и шли на веслах, лодкой не управлял никто; отец готовил удочки и, наблюдая за ходом лодки, выправлял его только жестом или словами: «Жан, легче, а ты, Пьер, приналяг». Или же говорил: «Ну-ка, первый, ну-ка, второй, подбавьте жару». И замечтавшийся начинал грести сильнее, а тот, кто слишком увлекся, умерял свой пыл, и ход лодки выравнивался.
Но сегодня им предстояло показать силу своих мускулов. У Пьера руки были волосатые, жилистые и несколько худые; у Жана — полные и белые, слегка розоватого оттенка, с буграми мышц, которые перекатывались под кожей.
Вначале преимущество было за Пьером. Стиснув зубы, нахмурив лоб, вытянув ноги, он греб, судорожно сжимая обеими руками весло, так что оно гнулось во всю длину при каждом рывке и «Жемчужину» относило к берегу. Ролан-отец, предоставив всю заднюю скамью дамам, сидел на носу лодки и, срывая голос, командовал: «Первый, легче; второй, приналяг?» Но первый удваивал рвение, а второй никак не мог подладиться под него в этой беспорядочной гребле.