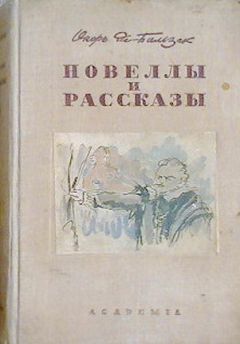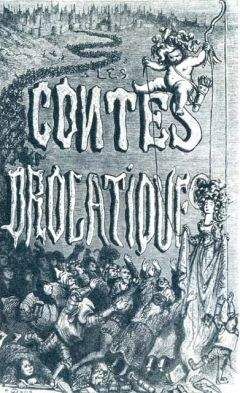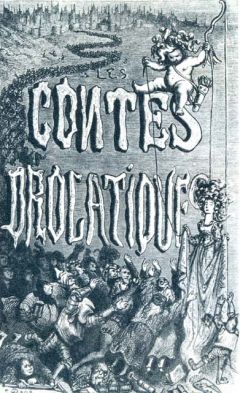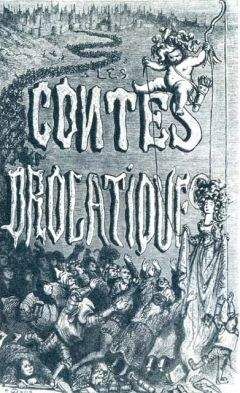Оноре Бальзак - Сарразин
Он сдерживал неукротимость своего ученика в известных границах, то запрещая ему работать и уговаривая его развлечься, когда видел, что Сарразин увлечен вихрем какого-то замысла, то поручая ему ответственную работу в такую минуту, когда тот готов был предаться праздности. Но, по отношению к этой порывистой душе, самым могучим оружием оставалась ласка, и учитель сумел подчинить ученика своему влиянию, только пробуждая в нем благодарность своей отеческой добротой.
Двадцати двух лет от роду Сарразин, волею судьбы, вышел из-под благотворного влияния, оказываемого Бушардоном на его поведение и нравы. Его исключительное дарование получило признание: он был за свою работу награжден премией, учрежденной для скульпторов маркизом де Мариньи, братом мадам де Помпадур, так много сделавшим для искусства. Дидро назвал шедевром статую, изваянную учеником Бушардона. Старый скульптор с глубокой болью отпустил в Италию юношу, которого он до сих пор, согласно своим убеждениям, держал в глубоком неведении о делах мира сего.
Сарразин в течение шести лет был сотрапезником Бушардона. Будучи таким же фанатиком своего искусства, каким впоследствии был Канова, он, в продолжение всех этих лет, вставал на рассвете и шел в мастерскую, откуда выходил только с наступлением ночи. Вся жизнь его принадлежала его музе. В театр «Французской комедии» он попадал только тогда, когда его увлекал туда учитель. У госпожи Жофрен и в большом свете, куда пытался его ввести Бушардон, он чувствовал себя столь стесненным, что предпочитал одиночество легкомысленному веселью, свойственному его эпохе. У него не было других возлюбленных, кроме Скульптуры и Клотильды, одной из знаменитостей оперного театра. Да и связь с Клотильдой длилась недолго. Сарразин был некрасив, всегда дурно одет и, по характеру своему, так свободолюбив, что не признавал никаких стеснений в своей личной жизни. Поэтому знаменитая певица, опасаясь возможной катастрофы, вернула молодого скульптора на лоно его любимого искусства. Софи Арну пустила по этому поводу остроту: она высказала, если не ошибаюсь, удивление по поводу того, что ее подруга могла перевесить статую.
В 1758 году Сарразин уехал в Италию. Во время этого путешествия его пылкое воображение под пламенным небом Италии и при соприкосновении с прекраснейшими памятниками искусства, рассеянными всюду по этой родине всех искусств, разгорелось ярким огнем. Молодой скульптор любовался статуями, фресками, картинами. Он прибыл в Рим, полный духа соревнования и стремления поставить свое имя в один ряд с именами Микеланджело и Бушардона. В течение первых дней своего пребывания в Риме Сарразин делил время между работой в мастерской и внимательным изучением творений искусства, которыми так богат этот город.
Он прожил в Риме две недели, все еще не выходя из состояния экстаза, охватывающего каждого восприимчивого человека при виде этой царицы развалин. Однажды вечером он вошел в театр «Арджентина», у входа в который толпился народ. Сарразин спросил о причине такого скопления, и люди ответили ему двумя именами:
— Замбинелла! Иомелли!
Он вошел и занял место в партере, зажатый между двумя в достаточной степени жирными abbati. Ho место ему все же досталось удачное — оно находилось совсем близко от сцены. 3анавес взвился. Впервые в жизни довелось скульптору услышать музыку, прелести которой ему так красноречиво превозносил Жан-Жак Руссо на вечере у барона Гольбаха. Под впечатлением божественной гармонии Иомелли все чувства молодого скульптора словно смягчились. Своеобразная томность этих итальянских голосов, искусно слитых воедино, повергла его в состояние неизъяснимого блаженства. Он онемел и замер в неподвижности, не ощущая даже близости своих соседей-аббатов. Душа его словно переселилась в уши и глаза. Ему казалось, что он впитывает звуки всеми своими порами. Внезапно раздался гром аплодисментов, способный сокрушить стены зала, — это публика приветствовала появление на сцене примадонны. Движимая кокетством, она приблизилась к авансцене и поклонилась публике с неизъяснимой грацией. Освещение, восторг толпы, иллюзия, создаваемая условиями сцены, очарование костюма, который в те времена был достаточно соблазнительным, — все это вместе еще усиливало впечатление, производимое этой женщиной. Сарразин кричал от восторга. Он был восхищен, увидев воочию идеал красоты, которого он до сих пор тщетно искал в природе, беря от одной натурщицы, подчас в остальном безобразной, очаровательную округленность ноги, у другой — очертание груди, у третьей — белые плечи, соединяя воедино шею молодой девушки, руки такой-то женщины и гладкие, словно отполированные, колени подростка, никогда под холодным небом Парижа не встречая роскошных и нежных созданий древней Греции. В Замбинелле, живой и нежной, были слиты воедино изысканные пропорции женского тела, которых он так долго жаждал и судьею которых, самым строгим и в то же время самым страстным, бывает только скульптор. Выразительный рот, глаза, говорящие о любви, ослепительная белизна кожи. Добавьте к этим чертам, способным внушить восторг художнику, все совершенства Венеры, изваянные резцом древнего грека. Скульптор не мог насытиться неподражаемым изяществом линий, соединяющих руки с торсом, изумительной округлостью шеи, гармоничным изгибом бровей, носа, совершенным овалом лица, чистотой его полных жизни очертаний и красотой густых, загнутых кверху ресниц, окаймлявших широкие, сладострастные веки. Это было нечто большее, чем женщина, — это был шедевр! В этом чудесном создании сосредоточились и обещания любви, способные внушить восторг мужчинам, и красота, могущая удовлетворить самого строгого критика.
Сарразин пожирал глазами эту статую Пигмалиона, для него сошедшую с пьедестала. Но когда Замбинелла запела, он пришел в исступление. Его охватил озноб; затем он почувствовал, что где-то в глубине его существа, в глубине того, что мы, за отсутствием другого слова, называем сердцем, загорается яркий огонь. Он не аплодировал, он молчал, чувствуя, как им постепенно овладевает безумие, что-то вроде неистовства, какое мы способны переживать лишь в том возрасте, когда страстность наших желаний таит в себе нечто страшное, инфернальное. Сарразину захотелось броситься на сцену и овладеть этой женщиной. Его силы, удесятеренные благодаря какой-то душевной подавленности, причины которой объяснить невозможно, ибо все эти явления происходят в сфере, не поддающейся человеческому наблюдению, стремились проявиться с болезненной неудержимостью. Со стороны он казался равнодушным и словно отупевшим. Слава, наука, будущность, жизнь, лавры — все сгинуло.
«Быть любимым ею — или умереть!» — такой приговор вынес Сарразин самому себе.
Он был так опьянен, что не замечал ни зрительного зала, ни публики, ни актеров. Он не слышал даже музыки. Больше того, исчезло расстояние, отделявшее его от Замбинеллы, он обладал ею, его глаза, прикованные к ней, овладевали ею. Сила, почти дьявольская, позволяла ему чувствовать дыхание, исходящее из ее уст, обонять душистый запах пудры, покрывающей ее волосы, видеть тончайшие оттенки ее лица, пересчитывать синие жилки, просвечивающие сквозь атласную кожу.
Наконец, этот голос, такой гибкий и нежный, свежий и серебристый, мягкий, как нить, которой дуновение ветерка может придать любую форму, которую он свивает, развивает и рассеивает, этот голос так бурно потрясал его душу, что из уст его не раз вырывался невольный крик, подобный крику, исторгаемому мучительным наслаждением, какое так редко способно доставить удовлетворение человеческих страстей. Вскоре он был вынужден покинуть театр. Его ноги дрожали и почти отказывались нести его. Он чувствовал себя разбитым и слабым, как нервный человек, поддавшийся порыву неудержимого гнева. Он пережил такое наслаждение или такую муку, что жизнь ушла из него, как вода из опрокинутого толчком сосуда. Он ощущал во всем теле пустоту и полный упадок сил, подобный тому, что приводит в отчаяние выздоравливающих после тяжелой болезни. Охваченный необъяснимой тоской, он уселся на ступенях какой-то церковной лестницы. Опершись спиной о колонну, он погрузился в смутное, как сон, раздумье. Страсть сразила его, словно молния. Вернувшись домой, он отдался пароксизму деятельности, обычно свидетельствующему о возникновении в нашей жизни каких-то новых правящих ею начал. Охваченный первым порывом любовной лихорадки, столь же близкой к наслаждению, как и к страданию, и стремясь обмануть терзавшие его нетерпение и желания, он принялся рисовать по памяти портрет Замбинеллы.
Его мечты как будто облачились в реальную форму. На одном из листков Замбинелла изображалась в излюбленной Рафаэлем, Джорджоне и всеми великими художниками позе, спокойная и холодная. На другом — она словно заканчивала руладу и, томно склонив голову, казалось, прислушивалась к собственному голосу. Сарразин набросал портрет своей возлюбленной во всевозможных позах: он изобразил ее без покровов, сидящей, стоящей, лежащей, целомудренной и сладострастной, воплощая, по прихоти своих карандашей, все причудливые мечты, осаждающие наше воображение, когда мы поглощены мыслями о любимой женщине. Но его обезумевшие мысли уносились далеко за пределы рисунка. Он видел Замбинеллу, говорил с ней, умолял ее, переживал тысячи лет жизни и счастья подле нее, мысленно ставя ее в самые разнообразные положения, примеряя, если можно так выразиться, будущее, которое соединит его с нею. На следующее утро он послал своего слугу снять для него ближайшую к сцене ложу на весь сезон. Затем, как все молодые люди, обладающие страстной душой, он принялся перед самим собой преувеличивать предстоящие ему на избранном пути трудности и решил на первое время удовлетворить свою страсть возможностью без помехи любоваться своей возлюбленной.