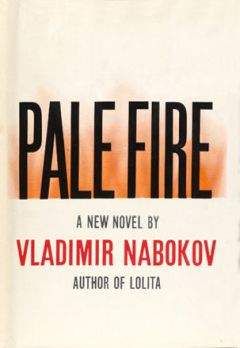Владимир Набоков - Бледное пламя
ПЕСНЬ ВТОРАЯ
Был час{33} в безумной юности моей,
Когда я думал: каждый из людей
Загробной жизни{34} таинству причастен,
170: Лишь я один — в неведенье злосчастном:
Великий заговор{35} людей и книг{36}
Скрыл истину, чтоб я в нее не вник.
Был день сомнений в разуме людском:
Как можно жить, не зная впрок о том,
Какая смерть, и мрак, и рок какой
Сознанье ждут за гробовой доской?
В конце ж была мучительная ночь,
Когда постановил я превозмочь
Той мерзкой бездны тьму, сему занятью
180: Пустую жизнь отдавши без изъятья.
Мне нынче{37} шестьдесят один. По саду
Порхает свиристель, поет цикада{38}.
В моей ладони ножнички, они —
Звезды и солнца яркие огни,
Блестящий синтез. Стоя у окна
Я подрезаю ногти, и видна
Невнятная похожесть: перст большой —
Сын бакалейщика; за ним второй —
Староувер Блю{39}, наш здешний астроном,
190: Вот тощий пастор (я с ним был знаком),
Четвертый, стройный, — дней былых зазноба,
При ней малец-мизинчик крутолобый;
И я снимаю стружку, скорчив рожу,
С того, что Мод звала "ненужной кожей".
Мод Шейд сравнялось восемьдесят в год,
Когда удар случился. Твердый рот
Искривился, черты побагровели.
В известный пансион, в Долину Елей
Ее свезли мы. Там она сидела
200: Под застекленным солнцем, то и дело
В ничто впиваясь непослушным глазом.
Туман густел. Она теряла разум,
Но говорить пыталась: нужный звук
Брала, застыв, натужившись, — как вдруг
Из ближних клеток мозга в диком танце
Выплескивались сонмы самозванцев,
И взор ее туманился в старанье
Смирить распутных демонов сознанья.
Под коим градусом распада{40} ждет
210: Нас воскрешенье? Знать бы день? И год?
Кто ленту перематывает вспять?
Не всем везет, иль должно всех спасать?
Вот силлогизм{41}: другие смертны, да,
Я — не "другой": я буду жить всегда.
Пространство — толчея в глазах, а время —
Гудение в ушах. И я со всеми
В сем улье заперт. Если б издали,
Заранее мы видеть жизнь могли,
Какой безделицей — нелепой, малой,
220: Чудесным бредом нам она б предстала!
Так впору ли, со смехом низкопробным,
Глумиться над незнаемым загробным:
Над стоном лир, беседой неспешливой
С Сократом или Прустом под оливой,
Над серафимом розовокрылатым,
Турецкой сластью и фламандским адом?
Не то беда, что слишком страшен сон,
А то, что он уж слишком приземлен:
Не претворить нам мира неземного
230: В картинку помудреней домового{42}.
И как смешны потуги{43} — общий рок
Перевести на свой язык и слог:
Звучит взамен божественных терцин
Бессонницы косноязычный гимн!
"Жизнь — донесенье. Писано впотьме".
(Без подписи.)
Я видел на сосне,
Шагая к дому в день ее конца,
Подобье изумрудного ларца{44},
Порожний кокон. Рядом стыл в живице
240: Увязший муравей.
Британец в Ницце{45},
Лингвист счастливый, гордый: "je nourris
Les pauvres cigales"[1]. — Кормит же, смотри,
Бедняжек-чаек!
Лафонтен, тужи:
Жующий помер, а поющий жив.
Так ногти я стригу и различаю
Твои шаги, — все хорошо, родная{46}.
Тобою любовался я, Сибил{47},
Все классы старшие, но полюбил
В последнем, на экскурсии к Порогу
250: Нью-Вайскому. Учитель всю дорогу
Твердил о водопадах. На траве
Был завтрак. В романтической канве
Предстал внезапно парк привычно-пресный.
В апрельской дымке видел я прелестный
Изгиб спины, струистый шелк волос
И кисть руки, распятую вразброс
Меж искрами трилистника и камня.
Чуть дрогнула фаланга. Ты дала мне,
Оборотясь, глаза мои встречая,
260: Наперсток с ярким и жестяным чаем.
Ты в профиль точно та же. Губ окромок
Так трепетен, изгиб бровей так ломок,
На скулах — тень ресниц. Персидский нос,
Тугая вороная прядь взачес
Являет взору шею и виски,
И персиковый ворс в обвод щеки. —
Все сохранила ты. И до сих пор
Мы ночью слышим струй поющих хор.
Дай мне ласкать тебя, о идол мой,
270: Ванесса, мгла с багровою каймой{48},
Мой Адмирабль бесценный! Объясни,
Как сталось, что в сиреневой тени
Неловкий Джонни Шейд, дрожа и млея,
Впивался в твой висок, лопатку, шею?
Уж сорок лет{49} — четыре тыщи раз
Твоя подушка принимала нас.
Четыре сотни тысяч раз обоим
Часы твердили время хриплым боем.
А много ли еще календарей
280: Украсят створки кухонных дверей?
Люблю тебя, когда, застыв, глядишь
Ты в тень листвы. "Исчез. Такой малыш!
Вернется ли?" (В тревожном ожиданье
Так нежен шепот — нежен, как лобзанье.)
Люблю, когда взглянуть зовешь меня ты
На самолетный след в огне заката{50},
Когда, закончив сборы, за подпругу
Мешок дорожный{51} с молнией по кругу
Ты тянешь. И привычный в горле ком,
290: Когда встречаешь тень ее кивком,
Игрушку на ладонь берешь устало
Или открытку, что она{52} писала.
Могла быть мной, тобой, — иль нами вместе.
Природа избрала меня. Из мести?
Из безразличья?.. Мы сперва шутили:
"Девчушки все толстушки, верно?" или
"Мак-Вэй (наш окулист) в один прием
Поправит косоглазие". Потом —
"А ведь растет премиленькой". — И в бодрость
300: Боль обряжая: "Что ж, неловкий возраст".
"Ей поучиться б верховой езде"
(В глаза не глядя). "В теннис... а в еде —
Крахмала меньше, фрукты! Что ж, она
Пусть некрасива, но зато умна".
Все бестолку. Конечно, высший балл
(История, французский) утешал.
Пускай на детском бале в Рождество
Она в сторонке — ну и что с того?
Но скажем честно: в школьной пантомиме
310: Другие плыли эльфами лесными
По сцене, что украсила она,
А наша дочь была обряжена
В Старуху-Время, вид нелепый, вздорный.
Я, помню, как дурак, рыдал в уборной.
Прошла зима. Зубянкой и белянкой
Май населил тенистые полянки{53}.
Скосили лето, осень отпылала,
Увы, но лебедь гадкая не стала
Древесной уткой{54}. Ты твердила снова:
320: "Чиста, невинна — что же тут дурного?
Мне хлопоты о плоти непонятны.
Ей нравится казаться неопрятной.
А девственницы, вспомни-ка, писали
Блестящие романы. Красота ли
Важней всего?.." Но с каждого пригорка
Кивал нам Пан, и жалость ныла горько:
Не будет губ, чтобы с окурка тон
Ее помады снять, и телефон,
Что перед балом всякий миг поет
330: В Сороза-Холл, ее не позовет;
Не явится{55} за ней поклонник в белом;
В ночную тьму ввинтившись скользким телом,
Не тормознет перед крыльцом машина,
И в облаке шифона и жасмина
Не увезет на бал ее никто...
Отправили во Францию, в шато.
Она вернулась — вновь с обидой, с плачем,
Вновь с пораженьем. В дни футбольных матчей
Все шли на стадион, она ж — к ступеням
340: Библиотеки, все с вязаньем, с чтеньем,
Одна — или с подругой, что потом
Монашкой стала, иногда вдвоем
С корейцем-аспирантом; так странна
Была в ней сила воли — раз она
Три ночи провела в пустом сарае{56},
Мерцанья в нем и стуки изучая.
Вертеть слова любила{57} — "тень" и "нет",
И в "телекс" переделала "скелет".
Ей улыбаться выпадало редко —
350: И то в знак боли. Наши планы едко
Она громила. Сидя на кровати
Измятой за ночь, с пустотой во взгляде,
Расставив ноги-тумбы, в космах грязных
Скребя и шаря ногтем псориазным,
Со стоном, тоном, слышимым едва,
Она твердила гнусные слова.
Моя душа — так тягостна, хмура,
А все душа. Мы помним вечера
Затишия: маджонг или примерка
360: Твоих мехов, в которых, на поверку,
Ведь недурна! Сияли зеркала,
Свет — милосерден, тень — нежна была.
Мы сделали латынь; стеною строгой
С моей флюоресцентною берлогой
Разлучена, она читает в спальне;
Ты — в кабинете, в дали дважды дальней.
Мне слышен разговор: "Мам, что за штука
Вестальи?" — "Как?" — "Вес талии". Ни звука.
Потом ответ твой сдержанный, и снова:
370: "Предвечный, мам?" — ну, тут-то ты готова
И добавляешь: "Мандаринку съешь?" —
"Нет. Да. А преисподняя?" — И в брешь
Молчания врываюсь я, как зверь,
Ответ задорно рявкая сквозь дверь.
Неважно, что читала, — некий всхлип
Поэзии{58} новейшей. Скользкий тип,
Их лектор, называл те вирши{59} "плачем
Чаруйной дрожи", — что все это значит,
Не знал никто. По комнатам своим
380: Разъятые тогда, мы состоим,
Как в триптихе или в трехактной драме,
Где явленное раз живет веками.
Надеялась ли? — Да, в глуби глубин.
В те дни я кончил книгу{60}. Дженни Дин{61},
Моя типистка, способом избитым
Ее свести решила с братом Питом.
Друг Джейн, их усадив в автомобиль,
Повез в гавайский бар за двадцать миль.
А Пит подсел в Нью-Вае, в половине
390: Девятого. Дорога слепла в стыни.
Уж бар нашли, внезапно Питер Дин
Себя ударив в лоб, вскричал: кретин!
Забыл о встрече с другом: друг в тюрьму
Посажен будет, если он ему...
Et cetera[2]. Участия полна,
Она кивала. Пит исчез. Она
Еще немного у фанерных кружев
Помедлила (неон рябил по лужам)
И молвила: "Мне третьей быть неловко.
400: Вернусь домой". Друзья на остановку
Ее свели. Но в довершенье бед
Она зачем-то вышла в Лоханхед.
Ты справилась с запястьем: "Восемь тридцать.
Включу". (Тут время начало двоиться.){62}
Экран чуть дрогнул, раскрывая поры.
Едва ее увидев, страшным взором
Пронзил он насмерть горе-сваху Джейн.
Рука злодея{63} из Флориды в Мэн
Пускала стрелы эолийских смут.
410: Сказала ты: "Вот-вот квартет зануд
(Три критика, пиит) начнет решать
Судьбу стиха в канале номер пять".
Там нимфа в пируэте{64} свой весенний
Обряд свершает, преклонив колени
Пред алтарем в лесу, на коем в ряд
Предметы туалетные стоят.
Я к гранкам поднялся наверх и слышал,
Как ветер вертит камушки на крыше.
"Зри, в пляс — слепец, поет увечна голь".
420: Здесь пошлый тон эпохи злобной столь
Отчетлив{65}... А потом твой зов веселый,
Мой пересмешник, долетел из холла.
Поспел я чаем удоволить жажду
И почестей вкусить непрочных: дважды
Я назван был, за Фростом, как всегда
(Один, но скользкий шаг){66}.
"Вот в чем беда:
Коль к ночи денег не получит он...
Не против вы? Я б рейсом на Экстон..."
Там — фильм о дальних странах: тьма ночная
430: Размыта мартом; фары, набегая,
Сияют, как глаза двойной звезды{67},
Чернильно-смуглый тон морской воды, —
Мы в тридцать третьем жили здесь вдвоем,
За девять лун до рождества ее.
Седые волны{68} уж не вспомнят нас, —
Ту долгую прогулку в первый раз,
Те вспышки, парусов тех белых рой
(Меж них два красных, а один с волной
Тягался цветом), старца с добрым нравом,
440: Кормившего несносную ораву
Горластых чаек, с ними — сизаря,
Бродившего вразвалку... Ты в дверях
Застыла. "Телефон?" О нет, ни звука.
И снова ты к программке тянешь руку.
Еще огни в тумане. Смысла нет
Тереть стекло: лишь отражают свет
Заборы да столбы на всем пути.
"А может, ей не стоило идти?
Ведь все-таки заглазное свиданье...
450: Попробуем премьеру "Покаянья"?"
Все так же безмятежно, мы с тобой
Смотрели дивный фильм. И лик пустой,
Знакомый всем, качаясь, плыл на нас.
Приотворенность уст и влажность глаз,
На щечке — мушка, галлицизм невнятный,
Все, точно в призме, расплывалось в пятна
Желаний плотских.
"Я сойду". — "Постойте,
Ведь это же Лоханхед!" — "Да-да, откройте".
В стекле качнулись призраки древес,
460: Автобус встал. Захлопнулся. Исчез.
Гроза над джунглями. "Ой, нет, не надо!"
В гостях Пат Пинк (треп против термояда).
Одиннадцать. "Ну, дальше ерунда", —
Сказала ты. И началась тогда
Игра в телерулетку. Меркли лица.
Ты слову не давала воплотиться,
Шутам рекламным затыкала рты.
Какой-то хлюст прицелился{69}, но ты
Была ловчей. Веселый негр{70} трубу
470: Воздел. Щелчок. Телетеней судьбу
Рубин в твоем кольце вершил, искрясь:
"Ну, выключай!.." Порвалась жизни связь,
Крупица света съежилась во мраке
И умерла.
Разбуженный собакой,
Папаша-Время{71} встал из шалаша
Прибрежного, и кромкой камыша
Побрел, кряхтя. Он был уже не нужен.
Зевнула ты. Мы доедали ужин.
Дул ветер, дул. Дрожали стекла мелко.
480: "Не телефон?" — "Да нет". Я мыл тарелки,
Младые корни, старую скалу
Часы крошили, тикая в углу.
Двенадцать бьет. Что юным поздний час!
И вдруг, в стволах сосновых заблудясь,
Веселый свет плеснул на пятна снега,
И на ухабах наших встал с разбега
Патрульный "Форд"... Отснять бы дубль другой!..
Одни считали — срезать путь домой
Она пыталась, где, бывает, в стужу
490: От Экса{72} к Ваю конькобежцы кружат,
Другие — что бедняжка заплуталась,
А третьи — что сама она сквиталась
С ненужной жизнью{73}. Я все знал. И ты.
Шла оттепель, и падал с высоты
Свирепый ветр. Трещал в тумане лед.
Весна, озябнув, жалась у ворот
Под влажным светом звезд, в разбухшей глине.
К трескучей, жадно стонущей трясине
Из камышей, волнуемых темно,
500: Скользнула тень — и канула на дно.
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ