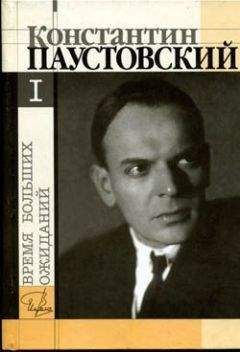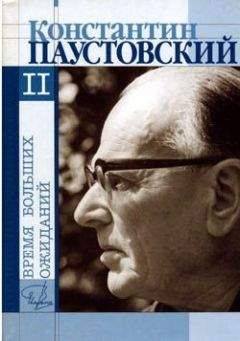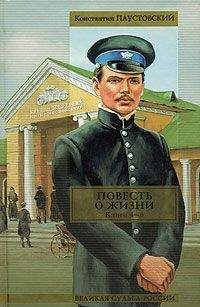Константин Паустовский - Время больших ожиданий
Поэтому при издании повести «Время больших ожиданий» отдельной книжкой необходимо включить в нее одесские фрагменты глав «О фиринке, водопроводе и мелких опасностях», «Последняя шрапнель» – из повести «Начало неведомого века». Такой подход вполне оправдан, так как при этом не нарушается авторский замысел писателя и в то же время читатель не будет обделен и обеднен в своих впечатлениях.
Теперь последнее. При публикации шести книг «Повести о жизни» в двухтомнике Гослитиздата в 1962 году Константин Паустовский поместил короткое предисловие «Несколько слов», фрагментом из которого мне и хотелось бы закончить свое затянувшееся повествование:
«Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:
Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное… Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».
Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.
Фрагменты глав из повести «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»
Из главы «О ФИРИНКЕ, ВОДОПРОВОДЕ И МЕЛКИХ ОПАСНОСТЯХ»
…Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и, бывало, по тихим осенним вечерам один только багровый жар жаровен освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид.
…Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт.
Назаров встретил в Одессе знакомую женщину – невропатолога из Москвы, – и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман -весьма величественный и учтивый человек – отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом.
Отопление в санатории не работало, комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная «буржуйка», как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трех-четырех фунтов, – не было денег.
…Я опять работал корректором в газете (название ее я позабыл) [1]. Издавал эту газету академик Овсянико-Куликовский. Работал я через два дня на третий и получал очень мало «колоколов» – так назывались тогда деникинские деньги с изображением Царь-колокола в Кремле.
Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнущий морской солью холодный воздух в его стенах.
…Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни -много или мало, – но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками – юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира – того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности.
…После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы, – побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из «батальонов смерти» пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали.
…Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной:
Бедный Рунич горько плачет –
Вера лежит в гробу.
Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни, Вера лежала в гробу и просила Рунича:
Голубыми васильками
Грудь мою обвей
И горючими слезами
Грудь мою облей.
Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лифшицем. Бездомный Лифшиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана.
У маленького, неспокойного и взъерошенного Лифшица была кличка «Яша на колесах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лифшица: он на ходу делал каждой ступней такое же качательное движение, какое, например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идет, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс-папье или на часть колеса, – подметки у них были согнуты выпуклой дугой.
Мы шли с «Яшей на колесах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышли два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались. Казалось, они поджидали нас.
– Бандиты, – сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:
– Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.
– Как?
– Подойти и заговорить с ними. И все будет ясно.
У Яши была житейская теория – всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей.
– О чем же говорить? – спросил я с недоумением.
– Все равно. Это не имеет значения.
Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:
– Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?
Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти
на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал.
Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.
– Вот видите, – сказал с торжеством Яша. – Мой метод действует безошибочно.
Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:
– Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.
– Ну уж и со всех! – весело ответил Яша.
– Почти со всех, – поправился молодой человек и улыбнулся. -С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас разденут – в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думаете?
– Да, пожалуй… – растерянно ответил Яша.
– Так вот, будьте настолько любезны.
Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.
– Если вас это не затруднит, – сказал молодой человек с финкой, -то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь, – обернулся он ко мне, – нам хватит и одного пальто. Жадность – мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного не добьешься в жизни.
Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.
…Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу…
…Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан.
Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти.
Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стурдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем.
В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с узкой темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян.