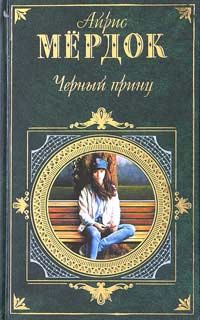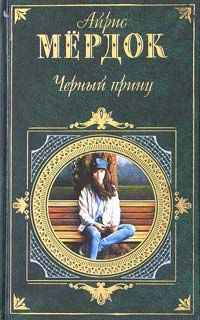Черный принц - Мердок Айрис
— Значит, его парализует чувство вины? Но он нигде этого не говорит. Он ужасно самодовольный и ко всем придирается. Как, например, он безобразно обращается с Офелией.
— Это все стороны одного и того же.
— То есть чего?
— Он отождествляет Офелию с матерью.
— Но я думала, он любит мать?
— Вот именно.
— Как это «вот именно»?
— Он не может простить матери прелюбодеяния с отцом.
— Подожди, Брэдли, я что-то запуталась.
— Клавдий — это продолжение брата в плане сознания.
— Но невозможно же совершить прелюбодеяние с мужем, это нелогично.
— Подсознание не знает логики.
— То есть Гамлет ревнует? Ты хочешь сказать, что он влюблен в свою мать?
— Ну, это общее место. Знакомое до скуки, по-моему.
— Ах, ты об этом.
— Да, об этом.
— Понятно. Но я все равно не понимаю, как он может думать, что Офелия — это Гертруда, они нисколько не похожи.
— Подсознание только тем и занимается, что соединяет разных людей в один образ. Образов подсознания ведь всего несколько.
— И поэтому разным актерам приходится играть одну и ту же роль?
— Да.
— Я, кажется, не верю в подсознание.
— Вот и умница.
— Брэдли, ты опять меня дурачишь?
— Нисколько.
— Почему Офелия не спасла Гамлета? Это у меня такой следующий вопрос.
— Потому, моя дорогая Джулиан, что невинные и невежественные молодые девицы, вопреки своим обманчивым понятиям, вообще не способны спасать менее молодых и более образованных невротиков — мужчин.
— Я знаю, что я невежественна, и не могу отрицать, что я молода, но с Офелией я себя не отождествляю!
— Разумеется. Ты воображаешь себя Гамлетом. Как все.
— Всегда, наверно, воображаешь себя главным героем.
— Для великих произведений это не обязательно. Разве ты отождествляешь себя с Макбетом или Лиром?
— Н-нет, но все-таки…
— Или с Ахиллом, или с Агамемноном, с Энеем, с Раскольниковым, с мадам Бовари, с Марселем, с Фанни Прайс…
— Постой, постой. Я тут не всех знаю. И, по-моему, я отождествляю себя с Ахиллом.
— Расскажи мне о нем.
— Ой, Брэдли… Ну, я не знаю… Он ведь убил Гектора, да?
— Ладно, неважно. Ты меня поняла, я надеюсь?
— Н-не совсем.
— Своеобразие «Гамлета» в том, что это — великое произведение, каждый читатель которого отождествляет себя с главным героем.
— Ага, поняла. Поэтому он хуже, чем другие основные произведения Шекспира?
— Нет. «Гамлет» — лучшая из пьес Шекспира.
— Тогда тут что-то странное получается.
— Именно.
— В чем же дело, Брэдли? Знаешь, можно, я запишу вкратце вот то, что мы с тобой говорили о Гамлете — что он не мог простить матери прелюбодеяния с отцом и все такое? Черт, как тут жарко. Давай откроем окно, а? И ничего, если я сниму сапоги? Я в них заживо испеклась.
— Запрещаю тебе что-либо записывать. Открывать окно не разрешаю. Сапоги можешь снять.
— Уф. «За это благодарствуйте». — Она спустила «молнии» на голенищах и обнажила обтянутые в розовое ноги. Полюбовавшись своими ногами, она расстегнула еще одну пуговицу у ворота и хихикнула.
Я спросил:
— Ты позволишь мне снять пиджак?
— Ну конечно!
— Сможешь увидеть мои подтяжки.
— Как обворожительно! Ты, наверно, последний мужчина в Лондоне, который носит подтяжки. Это теперь такая же пикантная редкость, как подвязки.
Я снял пиджак и остался в серой в черную полоску рубашке и серых армейского образца подтяжках.
— Ничего пикантного, к сожалению. Если б я знал, мог бы надеть красные.
— Значит, ты все-таки не ждал меня?
— Что за глупости. Ты не против, если я сниму галстук?
— Что за глупости.
Я снял галстук и расстегнул на рубашке две верхние пуговицы. Потом одну из них застегнул снова. Растительность у меня на груди обильная и седая (или «с проседью сребристой», если угодно). Пот бежал струйками у меня по вискам, сзади по шее, змеился через заросли на груди.
— А ты не потеешь, — сказал я Джулиан. — Как это тебе удается?
— Какое там. Вот смотри. — Она сунула пальцы в волосы, потом протянула мне через стол руку. Пальцы у нее были длинные, но не чересчур тонкие. На них чуть поблескивала влага. — Ну, Брэдли, на чем мы остановились? Ты говорил, что «Гамлет» — единственное произведение…
— Давай-ка мы на этом кончим, а?
— Ой, Брэдли, я так и знала, что надоем тебе! И теперь я тебя не увижу много месяцев, я тебя знаю.
— Перестань. Всю эту тягомотину насчет Гамлета и его матушки ты можешь прочитать в книжке. Я скажу — в какой.
— Значит, это неправда?
— Правда, но не главное. Интеллигентный читатель схватывает такие вещи между делом. А ты интеллигентный читатель in ovo [19].
— Что «и ново»?
— Дело в том, что Гамлет — это Шекспир.
— А Лир, и Макбет, и Отелло?..
— Не Шекспир.
— Брэдли, Шекспир был гомосексуален?
— Конечно.
— А-а, понимаю. Значит, на самом деле Гамлет был влюблен в Горацио и…
— Помолчи минутку. В посредственных произведениях главный герой — это всегда автор.
— Папа — герой всех своих романов.
— Поэтому и читатель склонен к отождествлению. Но если величайший гений позволяет себе стать героем одной из своих пьес, случайно ли это?
— Нет.
— Мог ли он это сделать несознательно?
— Не мог.
— Верно. И, стало быть, вот, значит, о чем вся пьеса.
— О! О чем же?
— О личности самого Шекспира. О его потребности выразить себя как романтичнейшего из всех романтических героев. Когда Шекспир оказывается всего загадочнее?
— То есть как?
— Какая часть его наследия самая темная и служит предметом бесконечных споров?
— Сонеты?
— Верно.
— Ой, Брэдли, я читала одну такую удивительную штуку про сонеты…
— Помолчи. Итак, Шекспир оказывается загадочнее всего, когда говорит о себе. Почему «Гамлет» — самая прославленная и самая доступная из его пьес?
— Но это тоже оспаривается.
— Да, однако факт, что «Гамлет» — самое широко известное произведение мировой литературы. Землепашцы Индии, лесорубы Австралии, скотоводы Аргентины, норвежские матросы, американцы — все самые темные и дикие представители рода человеческого слышали о Гамлете.
— Может быть, лесорубы Канады? По-моему, в Австралии…
— Чем же это объяснить?
— Не знаю, Брэдли, ты мне скажи.
— Тем, что Шекспир силой размышления о себе самом создал новый язык, особую риторику самосознания…
— Не поняла…
— Все существо Гамлета — это слова. Как и Шекспира.
— «Слова, слова, слова».
— Из какого еще произведения литературы столько мест вошли в пословицы?
— «Какого обаянья ум погиб!» [20]
— «Все мне уликой служит, все торопит».
— «С тех пор, как для меня законом стало сердце».
— «Какой же я холоп и негодяй!»
— «На время поступишься блаженством».
— И так далее, до бесконечности. Как я и говорил, «Гамлет» — это монумент из слов, самое риторическое произведение Шекспира, самая длинная его пьеса, самое замысловатое изобретение его ума. Взгляни, как легко, с каким непринужденным, прозрачным изяществом закладывает он фундамент всей современной английской прозы.
— «Какое чудо природы человек…»
— В «Гамлете» Шекспир особенно откровенен, откровеннее даже, чем в сонетах. Ненавидел ли Шекспир своего отца? Конечно. Питал ли он запретную любовь к матери? Конечно. Но это лишь азы того, что он рассказывает нам о себе. Как отваживается он на такие признания? Почему на голову его не обрушивается кара настолько же более изощренная, чем кара простых писателей, насколько бог, которому он поклоняется, изощреннее их богов? Он совершил величайший творческий подвиг, создал книгу, бесконечно думающую о себе, не между прочим, а по существу, конструкцию из слов, как сто китайских шаров один в другом, высотою с Вавилонскую башню, размышление на тему о бездонной текучести рассудка и об искупительной роли слов в жизни тех, кто на самом деле не имеет собственного «я», то есть в жизни людей. «Гамлет» — это слова, и Гамлет — это слова. Он остроумен, как Иисус Христос, но Христос говорит, а Гамлет — сама речь. Он — это грешное, страждущее, пустое человеческое сознание, опаленное лучом искусства, жертва живодера-бога, пляшущего танец творения. Крик боли приглушен, ведь он не предназначен для нашего слуха. Красноречие прямого обращения oratio recto, а не oratio obliqua [21]. Но адресовано оно не нам. Шекспир самозабвенно обнажает себя перед почвой и творцом своего существа. Он, как, быть может, ни один художник, говорит от первого лица, будучи на вершине искусства, на вершине приема. Как таинствен его бог, как недоступен, как грозен, как опасно к нему обращаться, это Шекспиру известно лучше, чем кому бы то ни было. «Гамлет» — это акт отчаянной храбрости, это самоочищение, самобичевание пред лицом бога. Мазохист ли Шекспир? Конечно. Он король мазохистов, его строки пронизаны этим тайным пороком. Но так как его бог — это настоящий бог, а не eidolon [22], идолище, порожденное игрой его фантазии, и так как любовь здесь создала собственный язык, словно бы в первый день творения, он смог преосуществить муку в поэзию и оргазм — в полет чистой мысли…