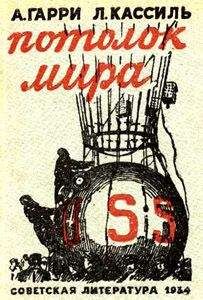Камиль Лемонье - Конец буржуа
Г-жа Флеше забилась в угол кареты. Рыдания сжимали ей горло. Она глухо стонала, и с каждым стоном ей казалось, что это скрипит журавль, доставая из колодца, вырытого ее горем, все новые ведра слез. Она не ощущала ни времени, ни пространства и не заметила, как доехала до дома Кадранов. Карета остановилась, и этот толчок, с которым прервался стук колес и улеглась поднятая экипажем пыль, внезапно привел ее в чувство. Она оглянулась; зубы ее по-прежнему впивались в кожаную перчатку; она не сразу поняла, куда ее привезли. Потом она увидела за стеклом фигуру лакея, дверца распахнулась — она узнала особняк Кадранов. Тогда она все вспомнила. Увозя ее из дома Эдокса, кучер поехал дальше, следуя тому расписанию визитов, которое она ему дала еще утром. От мысли, что ей придется сейчас встретиться с людьми, она пришла в ужас. И пока лакей стоял у дверцы кареты, она успела быстро сказать кучеру:
— Я передумала. Вези меня в церковь кармелиток.
Ей показалось, будто сам господь бог внушает ей мысль искать прибежища в его милосердии и хочет освободить ее душу из плена безумия, избавить ее от гнета скорби. Мысль эта ее взволновала, проникла в самые сокровенные глубины ее существа, пробудила дремавшую в ней христианскую веру. Она вошла под своды церкви, охваченная жаждой покаяния и умерщвления плоти. Это была уже не женщина, которую другая только что с позором выгнала из дома и чья гордость была жестоко уязвлена, это была смиренная грешница, согнутая под тяжестью своих нечестивых деяний, которая пришла теперь к купели божественного милосердия молиться о том, чтобы господь простил их ей и благословил ее на новую жизнь. Г-жа Флеше преклонила колена. Она увидела Христа, страдающего за отвратительные грехи людей, увидела тернии и гвозди на его теле, и ей пришло в голову, что с каждой человеческой низостью кровь снова и снова начинает сочиться из его ран. Ее собственная вина казалась ей безмерной: она согрешила всячески — и делом и помышлением, она погрязла в обмане и лжи. Она нарушила клятву, данную господу и его творению, нарушила в порыве исступления и духовной слепоты. С безграничным наслаждением, с головокружительным восторгом, которые были слаще (она в этом признавалась себе) всех радостей ее прежней чистой жизни, она приняла на себя всю грязь прелюбодеяния, кинулась в этот пагубный омут. Теперь она упрекала себя во всем, простертая ниц, как мраморная статуя с какого-нибудь надгробия, — вся застыв в этой позе, словно пытаясь подчинить свою непокорную плоть, загнать далеко вглубь свою тоску по наслаждениям соблазнительным и постыдным. Но стоило ей вспомнить об этой любовной истоме, о ласках и поцелуях, как она была уже не в силах отделаться от их власти, как сладострастные образы начинали ее преследовать и ее охватывала дрожь. Это было какое-то дьявольское искушение, злые, цепкие щупальца греха: они ползли по ее телу и только лишний раз доказывали ей, как бессильно ее раскаяние.
Ей захотелось исповедаться, и она попросила вызвать священника, но не решилась обратиться к тому, у кого она уже однажды просила совета. Ей было стыдно признаться, что она снова не сдержала слова, снова скатилась вниз и погрязла в вязкой тине порока, от которой она, как ей тогда казалось, очистилась навсегда. Ведь стоило только явиться ее прежнему духовнику, стоило ему насторожить слух, и от стыда она не смогла бы произнести ни слова, она не открыла бы даже рта, чтобы, вместе со страшным потоком ее новых признаний, не поднялась со дна вся муть ее прежнего греха. С новым же духовником, напротив, она как бы обретала некие льготы, представив все так, что грешит только впервые, и поэтому могла избежать справедливых укоров за новое нарушение обета. Она стала искренне каяться, просить священника дать ей силы, чтобы вернуться к исполнению своего долга. Однако он решил, что в словах ее слишком много экзальтации и поэтому такого раскаяния не может хватить надолго.
— Сестра моя, боюсь, что ваша скорбь идет не от бога. В вас говорит голос плоти. Вы оплакиваете не свой грех перед господом богом, а свои собственные горести, свою наказанную гордыню. Я не могу отпустить вам грехи. Придите сюда еще раз по окончании епитимьи, которую я на вас наложу.
«Господь оставил меня, — думала она, — он отказывает мне в прощении оттого, что я не могу отделить моей личной боли от той единственной скорби, которая должна бы владеть мною безраздельно».
Она осталась в церкви и около получаса еще молилась. Когда она ушла оттуда, совсем стемнело. Проходя мимо телеграфа, она вдруг почувствовала, что от ее раскаяния не осталось и следа, — ее снова потянуло к соблазну, и она вдруг послала в адрес секретаря Эдокса телеграмму следующего содержания: «Г-н Флеше убедительно просит г-на Рассанфосса зайти к нему сегодня вечером».
— Это ужасно, — думала она, — но это выше моих сил; я не могу освободиться от моего чувства. Разве человек этот не стал частицей меня самой? Ведь ради него я пожертвовала спасением души, и сейчас вот, стоило мне только выйти из исповедальни, как помыслы мои снова обратились к греху. Но, кроме того, надо, чтобы он знал, что отныне за каждым нашим шагом будут следить, что мстительность этой женщины будет следовать повсюду за нашей любовью. Господи! Взгляни на мои страдания и сжалься над моим бедным сердцем.
Г-жа Флеше целый вечер ждала Эдокса, мучимая тревогой. Неужели он испугался? — спрашивала себя она, прислушиваясь к бою часов и томясь от того, что ожиданию этому не было конца. — Неужели она все ему рассказала и теперь он решил никогда больше не встречаться со мной? Ах, бедный мальчик! Когда я сетую на свою судьбу, я забываю, что ему приходится еще хуже, чем мне: ведь муж мой по крайней мере ничего не знает, эта страшная истина не проникла к нам в дом, а там от нее уже нет спасения. «Нет, не может быть, — подумала она, разгадав своим женским чутьем хитрости другой женщины. — Она никогда не подаст виду, что боится меня как соперницы. А разве рассказать ему обо всем, что произошло между нами, не значило бы признаться в том, что она считает меня опасной? Но в таком случае, почему же он не исполнил моей просьбы, почему не приехал сразу же, как только получил мою телеграмму?»
XXIV
Эдокс не явился оттого, что в последнюю минуту его задержали. В этот вечер к нему пришел его зять, Леон Провиньян. Адвокат никак не мог решить, идти ему или нет к г-же Флеше, которой он не видел с самого ее возвращения. «Что это ей взбрело в голову вызывать меня телеграммой? — думал он. — Этот болван Флеше помирился с нами, и теперь самое время порвать эту связь: кроме неприятностей, она мне ничего не сулит».
В эту минуту вошел Леон и озабоченно стал пожимать ему руки.
— Ах, это ты, дорогой мой! Ты пришел как раз вовремя. А то я чуть было не сделал глупость. Надеюсь, ты останешься? А как Сириль?
— Сириль? Опять все то же. Нервы разыгрались.
Провиньян плюхнулся в кресло.
— Да, понимаю. Ты приехал сюда, чтобы рассказать мне о ваших домашних дрязгах?
— Вовсе нет… Ты человек здравомыслящий, не то что я, который всегда парит в облаках… Ах, друг мой, — продолжал Леон, вставая и кладя ему руки на плечи, — у меня опять наступила тяжелая полоса. Ничего не хочется делать, все на свете противно, в том числе и я сам, полный упадок сил, точно я завяз в какой-то тине и не могу вытащить ног и сделать хоть шаг вперед. Это ужасно. И вот я пришел к тебе, чтобы немного набраться сил, чтобы ты мне помог приободриться.
Они закурили. Эдокс расхаживал по ковру, пуская клубы дыма. Он был доволен, счастлив, что удобный предлог избавил его от неприятной для него встречи.
— Знаешь, милый Леон, ты что-то уж очень носишься со своим чувством. Ты не умеешь пользоваться жизнью. Если бы ты так, как я, с головой окунулся в политику, в дела, ты таким бы не был. У меня тоже есть свои маленькие неприятности, но мне не хватает времени о них думать. Я все время кружусь в водовороте.
— Договаривай все до конца, — сказал Леон, глядя на него своими светлыми, ясными глазами. — Ты считаешь меня бесполезным мечтателем. Да так оно и есть. Я вижу, что ни на что не гожусь. Я сам себе в тягость, на меня нападает тоска… Я начинаю что-то писать и не кончаю, и даже знаю, что никогда не кончу; я ничего не могу с собой поделать. Два месяца тому назад я задумал большую вещь, ораторию… Сначала все шло довольно гладко, мысли рождались одна за другой, и вдруг все словно куда-то провалилось, я совсем отупел, у меня появилось отвращение к этой работе. Брани меня, ругай, я буду тебе только благодарен. Этот раз я действительно был уверен, что у меня что-то получится. Но ведь это тоже одна из моих фанаберий — мне всегда кажется, что я создам какой-нибудь шедевр.
Эдокс пожал плечами.
— Я тебя совершенно не понимаю. Ты человек неглупый, у тебя очаровательная жена. Кому же и быть счастливым, если не тебе, а ты…