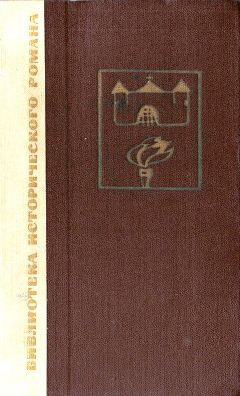Хосе Рисаль - Не прикасайся ко мне
— Аминь! — воскликнул старейшина терциариев и перекрестился.
Этим риторическим приемом, которому отец Дамасо научился у одного знаменитого проповедника из Манилы, он хотел поразить своих слушателей. И в самом деле, даже его собственный «святой дух» был так ошеломлен столькими великими истинами, что пришлось лягнуть его ногой, дабы напомнить о его обязанностях.
— И вот пред очами вашими… — подсказал «дух» снизу.
— И вот пред очами вашими предстает неоспоримое и мощное доказательство этой вечной философской истины! Вы зрите солнце добродетели, — я говорю солнце, а не луна, ибо не велика заслуга светить ночью: в стране слепых и кривой станет королем, ночью может светить и лучина и маленькая звездочка. Но величайшая заслуга в том, чтобы сиять средь бела дня, как сияет солнце; вот так же светит брат наш святой Диего даже в сонме величайших святых! Итак, пред очами вашими, пред вашим греховным неверием предстает величайшее творение всевышнего, дабы повергнуть в прах сильных мира сего; да, братья, это ясно, ясно для всех!
Какой-то бледный и трясущийся от страха человек поднялся с места и спрятался в исповедальне. Это был торговец спиртными напитками; он под шумок прикорнул, и ему приснилось, что карабинеры уличают его в контрабанде. Разумеется, он уже не вышел из своего укрытия до конца проповеди.
— О смиренный, святой затворник, твой деревянный крест (изваяние святого было украшено серебряным крестом), твои скромные одеяния делают честь великому Франциску, коего сынами и последователями мы являемся. Мы распространяем идеи твоего святого братства по всему миру, мы несем их в самые отдаленные места, в города и веси, не отличая белого от темнокожего (тут алькальд затаил дыхание), подвергая себя лишениям и принимая муки, несем нашу святую веру и воинствующую религию («Фу» — перевел дух алькальд), которая поддерживает мир в равновесии и не позволяет ему низвергнуться в пучину гибели!
Слушатели, даже сам капитан Тьяго, стали позевывать. Мария-Клара не следила за проповедью, она знала, что Ибарра неподалеку, и думала о нем, обмахиваясь веером и поглядывая на бычка, нарисованного рядом с одним из евангелистов и очень похожего на маленького буйвола.
— Всем вам надлежало бы знать получше святое Писание и жития святых, тогда мне не пришлось бы произносить для вас проповеди, о грешники! Вам надлежало бы знать такие важные и необходимые молитвы, как «Отче наш», а многие из вас и ее забыли и живут ныне подобно протестантам или еретикам, которые, как китайцы, не почитают служителей господа. Вы губите свою душу! Что ж, тем хуже для вас, о нечестивцы!
— Ох, сто это говолит отец Дамасо, сто? — бормотал китаец Карлос, сердито глядя на проповедника, который продолжал импровизировать, выкрикивая обвинения и проклятия.
— Вы умрете без покаяния, о племя еретиков! Даже в этом мире бог уже наказует вас тюрьмами и застенками! Вашим женам и детям следует бежать от вас, а властям — перевешать вас всех, дабы семя сатаны не размножилось на ниве господней! Иисус Христос сказал: если есть у тебя грешный член, что побуждает тебя ко греху, отсеки его и брось в огонь!..
Отец Дамасо так разволновался, что позабыл о тексте проповеди и о риторике.
— Слышишь? — спросил приятеля один юноша, студент из Манилы. — Ты отсечешь?
— Ха! Пусть сначала он себе отсечет! — ответил тот.
Ибарра стал встревоженно озираться по сторонам, пытаясь отыскать укромный уголок, но церковь была полна народу. Мария-Клара ничего не слышала и не видела вокруг себя; она разглядывала картину, изображавшую неприкаянные души чистилища в облике нагих мужчин и женщин с митрами, кардинальскими шапками и монашескими чепцами на головах; все они жарились в огне и цеплялись за веревку святого Франциска, не рвавшуюся несмотря на такую тяжесть.
Из-за импровизации проповедника его «святой дух» сбился и, пропустив три больших абзаца, стал подсказывать не то, что следовало. Отец Дамасо никак не мог отдышаться после своего гневного выпада.
— Кто из вас, о грешники, меня слушающие, — продолжал он, — станет лобызать язвы на теле нищего, одетого в лохмотья? Кто? Пусть ответит мне, подняв руку! Никто! Так я и знал, ибо только такой святой, как Диего из Алькала, был способен на это. Он лобызал всю эту гниль, говоря удивленному брату: «Так исцеляется страждущий!» О, христианское милосердие! О, неслыханное великодушие! О, добродетель из добродетелей! О, неподражаемый подвиг! О, незапятнанный талисман!..
И на паству снова обрушился град риторических восклицаний; проповедник то скрещивал руки на груди, то опускал их и воздевал к небу, будто хотел взлететь или вспугнуть птиц.
— Перед смертью он заговорил по-латыни, не зная латыни. Дивитесь сему, грешники! Хоть вы и учите латынь, хоть и стегают вас в школе, вам никогда не одолеть латыни, вы так и умрете, не зная ее! Умение говорить по-латыни — дар божий, потому церковь и говорит по-латыни. Я тоже говорю по-латыни! Вы думаете, бог решился бы отказать в этом утешении своему любимцу Диего? Думаете, призвал бы его к себе прежде, чем он заговорил бы по-латыни? О нет! Бог не был бы тогда справедлив, не был бы господом богом! Так вот, святой Диего заговорил по-латыни, об этом свидетельствуют летописцы того времени.
И проповедник завершил свое вступление концовкой, которая стоила ему немалого труда и была заимствована у великого писателя Синибальдо де Мае[117].
— Посему я славлю тебя, святой Диего, гордость нашего ордена. Ты образец всех добродетелей, ты скромен и доблестен, смиренен и благороден, ты покорен, но тверд, непритязателен, но честолюбив, непримирим, но справедлив; ты сострадателен и милосерден, благочестив и совестлив, предан богу и вере, доверчив и прямодушен, целомудрен и чист в любви, молчалив и сдержан, терпелив и стоек; ты храбр, но не заносчив, отважен, но не опрометчив; ты умерен в желаньях, послушен наставникам, кроток и стыдлив, великодушен и бескорыстен, обходителен и вежлив, умен и проницателен, добр и жалостлив, благонравен и почтителен, мстителен и мужествен, усерден и покорен, но беден; щедр, но не расточителен, смел, но осмотрителен, бережлив, но не скуп, прост, но мудр, пытлив, но не назойлив, ты деятелен и настойчив. Бог сотворил тебя для радостей самоотреченной любви! Помоги же мне воспеть твое величие и твое имя, более высокое, чем звезды, и более светлое, чем само солнце, плывущее у ног твоих! Помогите мне все вы, прочтите «Богородице, дево, радуйся», прося господа ниспослать мне вдохновение.
Все преклонили колена и глухо забубнили молитву — словно тучи оводов зажужжали. Алькальд с трудом опустился на одно колено, недовольно покачивая головой; альферес был бледен и подавлен.
— Черт бы побрал этого священника! — проговорил один из двух юношей, прибывших из Манилы.
— Молчи! — ответил другой. — Нас может услышать его любовница…
Тем временем отец Дамасо, вместо того чтобы читать со всеми «Богородицу», клял своего «святого духа», по вине которого он пропустил три лучших абзаца. Затем он сунул в рот два пирожных и запил их стаканом малаги, убежденный, что это вдохновит его куда больше, чем все святые духи в облике ли деревянного голубя или в облике рассеянного монаха.
Богомольная старуха снова подтолкнула локтем внучку, которая с трудом открыла слипавшиеся глазки и спросила:
— Уже пора плакать, да?
— Нет еще, но не смей спать, греховодница! — ответила добрая бабушка.
Вторую часть проповеди, произнесенную по-тагальски, мы можем воспроизвести лишь приблизительно. Отец Дамасо на этом языке импровизировал — не потому, что владел им лучше, а потому, что считал филиппинцев-провинциалов полными невеждами в риторике и не боялся сболтнуть глупость. С испанцами другое дело: он кое-что слышал о правилах ораторского искусства и понимал, что среди прихожан мог найтись человек с образованием, хотя бы сеньор старший алькальд. Поэтому проповеди на испанском языке отец Дамасо писал заранее, исправлял их, шлифовал, затем выучивал наизусть и два дня репетировал.
Говорят, что никто из присутствовавших не понял всей проповеди: люди слишком тупы, а священник говорил очень мудрено, как выразилась сестра Руфа. Прихожане напрасно ждали случая пустить слезу, и грешная внучка старой святоши опять заснула.
И все же эта часть проповеди имела последствия более важные, чем первая, по крайней мере для некоторых из прихожан, как мы увидим позже.
Священник начал ее словами: «Мана капатир кон кристиано»[118] за которыми хлынул поток непереводимых фраз; он говорил о душе, об аде, о «махаль на санто пинтакази»[119], о грешных туземцах и добродетельных отцах францисканцах.
— К черту! — сказал непочтительный манилец своему приятелю. — Для меня это все равно что по-гречески. Я ухожу.