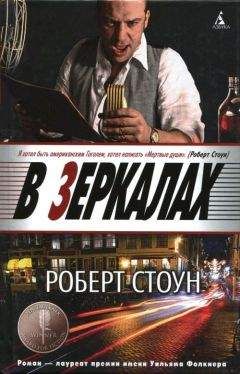Роберт (2) Стоун - В зеркалах
Девушка смотрела на него с опаской. Он положил руку ей на плечо.
— А когда я полностью вывернусь, милая, я расплывусь у твоих ног серой дурно пахнущей пленкой — эктоплазмой, по виду и по консистенции схожей со старым камамбером. Поняла? Я сделаю это для тебя, потому что ты так красиво произносишь название своей родины.
В центре этой эктоплазмы обрати внимание на большое количество тоски дерьмового оттенка. Ты заметишь, что она вся в маленьких присосках и непрерывно пульсирует. Это потому, что она всегда голодна. Кроме тех случаев, когда я забиваю ее до бесчувствия.
Музыкальный автомат грянул новое мамбо. Девушка повернулась к автомату, словно ища спасения, а потом посмотрела на бармена, который писал что-то в счетной книге.
— А потому я должен ее постоянно кормить. Тебе это понятно? Я кормлю ее всякими тоскливыми вещами, ясно? Я кормлю ее дохлятиной, безумием, визгом и чириканьем моего сознания. Но она ест все. И такой хищной зверюги больше в мире не найти, детка, потому что она съедает то, чего боится. Ясно? Когда она чего-нибудь пугается, то протягивает синие свои присосочки и съедает. Она жрет хромых и увечных, понимаешь? И здоровых, и целых, и все время она жрет меня. Кроме тех минут, когда я забиваю ее до бесчувствия. И знаешь, что она еще ест? Я тебе скажу, что она еще ест, потому что ты мило произносишь «Никарагуа».— Он наклонился и шепнул на ухо девушке: — Она жрет любовь.
Он сделал знак бармену.
— Ты сначала не был психом,— сказала ему девушка,— а теперь ты псих.
Она встала, сделала несколько шагов к гремевшему автомату и заплакала.
Бармен поглядел на нее и продолжал писать в счетной книге.
— Который час? — сказал Рейнхарт.— В этом вся суть. Девушка стояла посредине зала и плакала, а вокруг нее грохотало мамбо.
— Ты слышал, что он говорил? — крикнула она бармену.— Я не хочу...
— Слышал,— сказал бармен, глядя на деньги Рейнхарта, лежащие на стойке.— Он тебе ничего такого не сказал. Пьяный треп — и все.
— Нет, сказал,— возразил Рейнхарт.— Эксгибиционизм,— добавил он,— неодолимая потребность всех, кто углублен в себя.
Он взял пять долларов со стойки, подошел к девушке и сунул бумажку ей в руку.
— Я несу тебе благую весть,— сказал он.— Никогда больше до конца своих дней ты меня не увидишь. Прими мои торжественные заверения. Ни при каких обстоятельствах.
Девушка взяла деньги, не повернув к нему головы.
Рейни почти всю ночь прошагал по пустынным улицам. Когда пошел дождь, он сел в автобус и доехал до конечной остановки, где услышал звуки ночных болот, разносившиеся по воде. Из темных садов на него лаяли собаки. Где-то он прошел мимо ночной закусочной — сидевший в одиночестве раздатчик пугливо косился на широкое стеклянное окно.
Напрягая рассудок, Рейни старался решить, что делать дальше. Всю свою жизнь он чувствовал, что на него возложена какая-то обязанность и что эта миссия входит в договор, заключенный между ним и жизнью. Даже когда он переставал жить живой жизнью, это его не освобождало — он не мог отречься от этой обязанности и продолжать жить.
Он знал, что превратился в духовного калеку, что не выдерживает натиска обстоятельств, что у него нет резервов.
Он не переоценивал своих возможностей: он знал, что не способен преодолеть сопротивление. И что бы он теперь под конец ни сделал, это надо делать быстро и нести все последствия. Без сомнения, думал он, это будет что-то совсем малоценное, но вопрос не в этом. Если бы он начал раньше, то мог бы сделать что-то значительное, но теперь слишком поздно.
В одном он был уверен твердо: он пойдет завтра вечером на это их сборище.
Было уже очень поздно, когда он сел в автобус, шедший к центру. Он оказался совсем один, если не считать двух парочек, сидевших впереди,— служащих аэропорта, которые работают в ночную смену. Рейни не нравились их голоса: в них чудилось что-то знакомое и неприятное, о чем он не хотел вспоминать. Он тревожно смотрел в окно автобуса на бежавшие по почти уже ясному небу облака, странно прозрачные, обведенные по краям лунным светом. Когда он узнал замелькавшие снаружи улицы окраины, он встал и вышел из автобуса, ища укрытия во мраке, окутывавшем негритянские трущобы.
Он свернул в сторону от баров в южной части Рэмпарт-стрит на пустынные улицы. Машинально он пошел к гостинице Клото, и к тому времени, когда он добрался до нее, в нем возникла томительная тоска по дню и свету. Но когда он перешел замусоренную площадь и заглянул в окно вестибюля, была глухая ночь.
Сторож подметал пол и хлопал щеткой по разбегавшимся мышам. Его губы непрерывно шевелились.
Рейни подошел к окну кафе и увидел, что Рузвельт Берри у пустой стойки пьет из пивной кружки. Он вошел и встал рядом с журналистом.
Берри невесело поглядел на него и ничего не сказал.
— Мы расквитаемся,— сказал Рейни.— По-моему, я могу оказать вам услугу.
— Так я и знал,— сказал Берри.— Входил сюда и знал, что нынче у меня счастливый день, а теперь являетесь вы с намерением оказать мне услугу. Ну что мне от вас может быть нужно? Убирайтесь-ка отсюда, пока с вами ничего не случилось.
— Я еще не знаю какую,— сказал Рейни.— Но какую-то непременно.
Берри поглядел на грязную рубашку Рейни, на его лицо, осунувшееся от усталости.
— Вы свихнулись, друг мой,— сказал он спокойно.— А мне не жаль вас. Вероятно, мне следовало бы жалеть, что вы свихнулись, но я не жалею. Впрочем, одно я вам скажу.— Он похлопал Рейни по плечу с вялым дружелюбием.— Я и не рад.
— Я собираюсь схватиться с ними. У меня нет другого выбора. Ради себя, ради жизни. Я хочу, чтобы вы знали об этом и были свидетелем.
— Чушь,— сказал Рузвельт Берри.
— Что бы это ни было,— сказал Рейни,— я хочу, чтобы кто-нибудь знал, что это было сознательное и обдуманное действие.
— Ну-ну,— сказал Берри радостно,— просто замечательно, детка. Сознательное и обдуманное действие, а? И вы хотите, чтобы я при этом присутствовал? Так разрешите сообщить вам, что я намерен присутствовать только при собственном отбытии из здешних мест. И не позволю, чтобы сумасшедший лишал меня столь необходимого мне отпуска.
Он допил вино в кружке.
— Друг мой,— сказал он Рейни,— вы до того свихнулись, что мне блевать хочется. То есть как это вы схватитесь с ними? И кто, по-вашему, эти «они»? Вы все взбиваете пену, и они сотрут вас в порошок. Вы уже заработали себе кое-какие неприятности.
— Я сделал что мог,— сказал Рейни.— И пока не явилась полиция, я даже не думал, что сделал так много.
— Они займутся вами, когда завтра вечером докончат то, что начали. После этого, как предполагается, многое пойдет по-другому. Ну, а я уезжаю в отпуск.
— Вы говорите про это «возрождение»? — спросил Рейни.— Про митинг на стадионе?
— Да,— сказал Берри,— про это самое.
— А что вам известно?
— Я что, по-вашему, осведомитель? — Берри подошел к двери, которая вела в вестибюль отеля, и заглянул туда. Потом он притворил дверь и несколько секунд простоял возле нее, прислушиваясь.— Ну что же, вы правы,— объявил он Рейни, неторопливо возвращаясь к стойке.— Я осведомитель. Но только из любви к искусству.— Он налил себе в кружку еще вина.— Этот митинг состоится в Большой Лавочке дядюшки Лестера. Он собирается завтра превзойти самого себя, потому что ему предстоит устроить там не более и не менее как небольшие расовые беспорядки. Заправилы позаботятся о восстановлении своего закона и порядка, а нас, мальчиков, прижмут к ногтю, чтобы мы и пикнуть не смели. Это будет вроде второго «Рождения нации», а на роль злодея они подрядили Лестера, Он подошлет своих ребят — в решительный момент они должны будут появиться на стадионе, вопя что-нибудь. В теории предполагается, что они выберутся оттуда живыми и получат условленную плату, а тем временем одна компания возьмет верх над другой.
— Вы хотите сказать, что он намерен инсценировать расовые беспорядки?
— Для беспорядков нужны две стороны, и он поставит одну из них —ту, которая потерпит поражение, само собой разумеется. Кроме того, что-то вдруг стало очень легко организовывать протесты против этого митинга. Обычно Лестер протестов не одобряет, но вот на завтра они как-то очень быстро подобрали пикетчиков. А Лестер и не подумал вмешаться. Полиция тоже. Странновато получается.
— Кто стоит за этим?
— Не знаю,— сказал Берри.— Свободные техасские денежки.
— У них ничего не выйдет,— сказал Рейни.— Это невозможно.
— Я знаю, детка. Я знаю, что у них ничего не выйдет. Даже вы знаете, что у них ничего не выйдет. Но они-то этого не знают, а потому, глядишь, и добьются своего.
— Какое-то безумие,— сказал Рейни.— Зачем им понадобилось устраивать такое сумасшествие?
— Видите ли, друг мой, это все та же старая история: кто хуже. Но по моему мнению, мнению журналиста, они сядут в лужу. Во-первых, этот стадион находится в негритянском квартале. А к тому же я слышал, что завтра там соберутся еще черные, которые не работают у Лестера, и вот их умиротворить будет потруднее. И еще: во всей этой операции есть какая-то гнильца. Ничего похожего на добрые старые времена подначивания черномазых. Знаете, мне кажется, кое у кого из этих гладких толстяков есть в характере легкая склонность к самоубийству. Они помнят Аламо[15], ясно? Они думают, что пока вам не устроят хорошенькую резню, вы и знать не знаете, как это бывает.