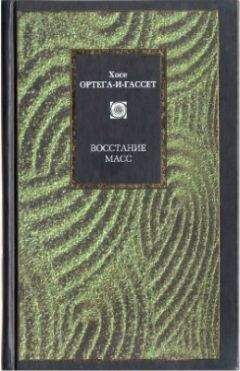Хосе Ортега-и-Гассет - Анатомия рассеянной души. Древо познания
Азартнее всех играли капелланы. Один из них был низенький, рыжий и циничный человек, забывший свою богословскую науку и пристрастившийся к медицине. Так как курс на медицинском факультете был слишком для него обширен, он приглядывался к административной части и подумывал о том, чтобы совсем снять рясу.
Другой священник был высокий, сильный мужчина с энергичными манерами. Он говорил решительным и властным тоном и обыкновенно рассказывал сальные анекдоты, вызывавшие грубые комментарии. Если какой-нибудь набожный человек укорял его за непристойные речи, он сейчас же менял голос и жесты, и с подчеркнутым лицемерием, притворно-елейным тоном, не подходившим к его смуглому лицу и черным наглым глазам, принимался уверять, что религия не имеет ничего общего с пороками ее недостойных служителей.
Некоторые интерны, знавшие его уже довольно долгое время и бывшие с ним на «ты», называли его Лагартихо, потому что он был немного похож на этого знаменитого тореадора.
— Послушай-ка, ты, Лагартихо, — говорили ему.
— Ничего бы я так не желал, — отвечал священник, — как променять рясу на красный плащ, и вместо того, чтобы помогать хорошо умирать, сражаться с быками.
Так как он часто проигрывался, то у него постоянно бывали разные неприятности. Однажды, вперемежку с живописными ругательствами, он сказал Андресу:
— Не могу я больше так жить. Ничего больше не остается, как выйти на улицу — повсюду служить обедни и глотать по четырнадцати облаток в день.
Уртадо не нравились эти циничные выходки.
Среди практикантов было несколько курьезных типов, настоящих больничных крыс, которые сидели здесь по пятнадцать-двадцать лет, не кончив обучения, и у которых тайной практики в бедных кварталах было больше, чем у многих врачей.
Андрес подружился с сестрами милосердия своей палаты и с некоторыми другими. Ему хотелось верить, — не из религиозности, а из романтизма, — что сестры милосердия — ангелы; но деятельность их в больнице сводилась, в сущности, только к хозяйственным заботам, да к тому, что они звали священника, когда положение больного резко ухудшалось. Кроме того, это были не идеальные, проникнутые мистицизмом существа, смотревшие на мир, как на долину слез, а девушки, не имеющие средств, или вдовы, которые принимали на себя обязанности сестры милосердия, как приняли бы всякую другую должность, для того, чтобы как-нибудь существовать.
Кроме того, сестры до больницы знавали лучшие времена.
Однажды больничный служитель передал Андресу тетрадку, найденную в старых бумагах, принесенных из флигеля сестер милосердия. Это был дневник монахини, короткие, очень лаконические заметки, впечатления, касающиеся жизни в больнице, за период в пять или шесть месяцев.
На первой странице была надпись: «Сестра Мария де ла Крус», и рядом число. Андрес прочел дневник и поразился. Жизнь в больнице описывалась с такой простотой и безыскусственной прелестью, что он был взволнован. Андресу захотелось узнать, кто была эта сестра Мария, живет ли она еще в больнице, и если нет, то где она теперь.
Он быстро выяснил, что она умерла. Одна монахиня, уже старая, знала ее. Она сказала Андресу, что сестра Мария умерла вскоре после поступления в больницу; ее определили в палату для тифозных, она заразилась там и умерла. Андрес не решился спросить, какая она была, какое у нее было лицо, хотя дал бы что угодно, лишь бы узнать это. Андрес сохранял дневник монахини, как реликвию, и так часто думал о ней, что, в конце концов, это переросло в настоящую манию.
Загадочным и странным типом, обращавшим на себя общее внимание в больнице, был брат Хуан. Человек этот, неизвестно откуда появившийся, ходил в черной блузе, туфлях и с большим распятием, висевшим у него на шее. Брат Хуан по собственной охоте ухаживал за самыми опасными больными. По-видимому, он был мистик, человек, живший среди горя и страданий, как в своей естественной среде. Брат Хуан был невысокого роста, с черной бородой, блестящими глазами, мягкими манерами, медоточивым голосом. Он принадлежал, несомненно, к семитическому типу.
Жил он в переулочке, отделявшем Сан Карлос от клинической больницы. Через переулочек этот были перекинуты две застекленные галерейки, и под одной из них, той, что была ближе к улице Аточа, находилась каморка брата Хуана. В этой каморке он жил с маленькой собачкой, разделявшей его уединение.
В котором бы часу ни приходили звать брата Хуана, всегда в каморке его был свет, и всегда его заставали на ногах. По словам одних, он проводил все время за чтением скабрезных книг, по словам же других — в молитве. Один из интернов уверял, будто видел, как он делал замётки в английских и французских трудах о половых извращениях.
Раз ночью, когда Андрес был дежурным, один из интернов предложил:
— Пойдем к брату Хуану и попросим у него чего-нибудь поесть и выпить.
Все отправились в переулочек, где находилось убежище брата Хуана. Каморка была освещена, они подошли к окну, желая подсмотреть, что делает таинственный брат милосердия, но не нашли просвета, в который можно было бы заглянуть. Тогда они окликнули его, и у окна тотчас же появился брат в своей вечной черной блузе.
— Мы дежурим, брат Хуан, — сказал один интерн, — и пришли спросить, не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить.
— Ах, бедняжки, бедняжки! — воскликнул тот. — Вы пришли как раз тогда, когда у меня самого не густо. Но я все же посмотрю, нет ли у меня чего-нибудь. — Он исчез за дверью, тщательно притворив ее за собою, и, немного погодя, появился с пакетиком кофе, сахара и печенья.
Студенты вернулись в дежурную комнату, съели печенье, выпили кофе и стали рассуждать о брате Хуане. Но не пришли к соглашению: одни думали, что он человек из общества, другие же, что он бывший лакей; одни считали его святым, другие — половым извращенцем или вроде того. Брат Хуан считался в больнице чудаком. Когда он получал деньги, — неизвестно откуда, — он устраивал обеды для выздоравливающих и дарил больным вещи, в которых те нуждались.
Несмотря на свою благотворительность и добрые дела, брат Хуан был почему-то противен Андресу и производил на него неприятное впечатление, чисто физическое.
В нем, несомненно, было что-то ненормальное. Для человека так логично, так естественно избегать страдания, болезней, печали. Для него же страдание, горе и грязь, должно быть, имели привлекательность.
Андрес скорее понял бы другую крайность, когда человек бежит от чужой скорби, как от чего-то ужасного и отвратительного, доходя даже до низости, до жестокости; он понимал, что можно избегать даже самого представления о страдании вокруг себя; но сознательно идти искать грязь, печаль, уныние для того, чтобы жить среди них, казалось ему чудовищным. Поэтому, при виде брата Хуана, он испытывал чувства настороженности, как при виде какого-нибудь чудовища.
Часть вторая
Препараторы
Хулио Арасиль и Андрес стали большими приятелями. Общая жизнь в Сан-Карлосе и в больнице сделала похожими их привычки, но ни их взгляды или вкусы. Со своей жестокой философией, в которой единственной ценностью был успех, Хулио начал питать гораздо большее уважение к Уртадо, чем к Монтанеру.
Андрес попал в интерны, как и сам Хулио, Монтанер же не только провалился на этом экзамене, но и остался на второй год на том же курсе а затем, окончательно махнув на себя рукой, перестал ходить на лекции и завел роман с молоденькой девушкой, своей соседкой.
Хулио Арасиль постепенно проникался к своему бывшему другу презрением и едва ли не желал ему неудач во всем.
На маленькое жалованье, получаемое в больнице, Хулио проделывал прямо чудеса; он умудрялся даже играть на бирже, владел акциями металлургических предприятий и однажды купил выигрышный билет…
Хулио хотелось, чтобы Андрес был свидетелем его успехов в свете.
— Я познакомлю тебя с Мингланильясами, — сказал он однажды со смехом.
— Кто это такие? — спросил Андрес.
— Две девушки, мои приятельницы.
— Это их фамилия?
— Нет. Но я их прозвал так, потому что они, в особенности мать, ужасно похожи на одну героиню Табоады[308].
— А кто они?
— Дочери одной вдовы, живущей на пенсию, Нини и Лулу. Я устроился с Нини, старшей. А ты можешь столковаться с младшей.
— В каком же смысле ты с ней устроился?
— Да во всех. Мы с ней ходим в один уголок на улице Сервантеса, который я отыскал и который могу порекомендовать тебе в случае надобности.
— Что же, ты на ней женишься?
— Господь с тобой! Этого еще недоставало!
— Но ведь ты же обесчестил девушку.
— Я? Какая чепуха!
— Да ведь она твоя возлюбленная!
— А кто про это знает? И потом, кому до этого какое дело?