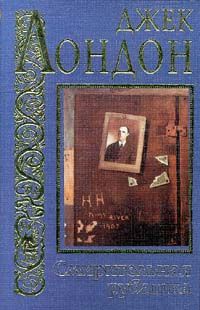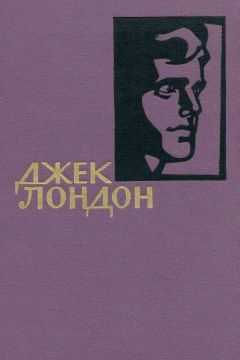Джек Лондон - Межзвездный скиталец
Это забавно! Как смешна претензия этих жалких червячков, полагающих, будто они могут убить меня!
Я не могу умереть. Я бессмертен, как бессмертны и они; разница лишь в том, что я это знаю, а они не знают.
Ба! Я сам был некогда вешателем или, вернее сказать, палачом. Я очень хорошо помню это. Я работал мечом, не веревкой. Меч — более мужественный способ, хотя все способы одинаково недействительны. Разве можно заколоть дух сталью или задушить веревкой?
ГЛАВА XIX
Наряду с Оппенгеймером и Моррелем, которые гнили со мною в эти черные годы, я считался самым опасным узником Сан-Квэнтина, с другой стороны, меня считали самым упрямым — упрямее даже Оппенгеймера и Морреля. Под упрямством я подразумеваю выносливость. Ужасны были попытки сломить физически и духовно моих товарищей, но еще страшнее были попытки сломить меня. Ибо я все вынес! Динамит или «крышка» — таков был ультиматум смотрителя Этертона. А в конце не вышло ни того, ни другого. Я не мог показать динамита, а смотритель Этертон не мог добиться «крышки».
И случилось это не потому, что было выносливо мое тело, а потому, что вынослив был мой дух. И потому еще, что в прежних существованиях мой дух был закален, как сталь, жесткими, как сталь, переживаниями. Одно такое переживание долго было для меня каким-то кошмаром. Оно не имело ни начала, ни конца. Неизменно я видел себя на скалистом, размытом бурунами островке, до того низком, что в бурю соленая пена долетала до самых высоких мест островка. Часто и помногу шли дожди. Я жил в пещере и отчаянно страдал, ибо не имел огня и питался сырым мясом. Я страдал непрерывно. Это была середина какого-то переживания, к которому я не мог найти нити. И так как, погружаясь в «малую смерть», я не имел власти направлять мои скитания, то часто я видел себя переживающим именно этот отвратительный эпизод. Единственными счастливыми моими минутами были те, когда светило солнце, — тогда я грелся на камнях и у меня прекращался тот почти непрерывный озноб, от которого я жестоко страдал.
Единственным моим развлечением было весло и складной нож. Над этим веслом я провел много времени, вырезая на нем крохотные буквы, и делал зарубки в конце каждой недели. Много было этих зарубок! Я оттачивал нож на плоском камне, и никогда ни один парикмахер не дрожал так над своей любимой бритвой, как я дрожал над этим ножом. Ни один скряга не ценил так своего сокровища, как я ценил свой нож. Он был для меня дорог, как самая жизнь. В сущности, в нем и была вся моя жизнь.
Путем повторных усилий мне удалось восстановить повесть, вырезанную на этом весле. Вначале расшифровать удавалось очень мало; потом это стало легче, и я начал соединять в одно разрозненные обрывки. В конце концов я разобрал все. Вот что на нем значилось: «Осведомляю лицо, в руки которого может попасть это весло, что Даниэль Фосс, уроженец Эльктона в Мериленде, одном из Соединенных Штатов Америки, отплывший из порта Филадельфии в 1809 году на бриге „Негосиатор“, с назначением к островам Дружбы, был выброшен в феврале следующего года на этот пустынный остров, где он построил хижину и жил много лет, питаясь тюленями. Он — последний, оставшийся в живых из экипажа означенного брига, который наткнулся на ледяной остров и за тонул 25 ноября 1809 года».
Вот эта повесть. Благодаря ей я многое узнал о себе. Одного только пункта я, к моей досаде, никак не мог выяснить. Находится ли этот остров в южной части Тихого океана или в южной части Атлантики? Я недостаточно знаком с путями парусных судов, чтобы сказать с уверенностью, должен ли был плыть бриг «Негосиатор» на острова Дружбы мимо мыса Доброй Надежды или мимо мыса Горна. Сознаюсь в своем невежестве: только после того, как меня посадили в Фольсом, я узнал, в каком океане находятся острова Дружбы. Убийца-японец, о котором я уже упоминал раньше, служил парусным мастером на судах Артура Сиуолла, и он говорил мне, что вероятный курс корабля лежал мимо мыса Доброй Надежды. Если это так, то тогда дата отплытия из Филадельфии и дата крушения легко бы определили самый океан. К несчастью, датой отплытия показан просто 1809 год. Крушение могло произойти как в том океане, так и в другом.
Только однажды в своих трансах получил я намек на период, предшествующий времени, проведенному на острове. Начинается это в момент столкновения брига с ледяной горой; и я расскажу об этом хотя бы для того, чтобы дать представление о моем замечательно хладнокровном и обдуманном поведении. Как вы увидите, это поведение и дало мне в ту пору возможность в конце концов пережить весь экипаж корабля.
Я проснулся на своей койке от страшного треска, как и остальные шесть человек, спавшие внизу после вахты. Мы все мгновенно вскочили и поняли, что случилось. Другие же ничего не подозревали, когда, полураздетые, выбежали на палубу. Но я знал, чего следует ждать, — и ждал; я знал, что если нам суждено спастись, то только в баркасе. В этом ледяном море никто плавать не мог и никто в скудной одежде не мог бы долго прожить в открытой лодке. Кроме того, я хорошо знал, сколько времени требуется для спуска лодки на воду.
И вот при свете бешено качавшейся сальной плошки, под шум на палубе и крики «тонем», я начал рыться в своем морском сундуке, ища подходящего платья. Перерыл я и сундуки моих товарищей, зная, что они им больше не понадобятся. Работая быстро и сосредоточенно, я вынимал только самые теплые и толстые части костюма. Я напялил на себя четыре лучших шерстяных рубашки, какими только мог похвастаться бак, три пары панталон и три пары толстых шерстяных носков. Ноги мои после этого стали так огромны, что я не мог уже надеть на них своих собственных отличных сапог. Вместо этого я напялил новые сапоги Николая Вильтона, которые были больше и толще моих. Поверх своей куртки я напялил еще куртку Иеремии Нэлора, а поверх всего толстый брезентовый плащ Сэта Ричардса, который он совсем недавно заново просмолил.
Две пары толстых рукавиц, шарф Джона Робертса, связанный для него его матерью, и бобровая шапка Джозефа Доуэса поверх моей собственной — ибо она была с наушниками и с отворотами над шеей — дополнили мое снаряжение. Крики на палубе усиливались, но я еще на минуту задержался, чтобы набить карманы прессованным табаком, какой только попадался под руку. Затем я вылез на палубу. И пора было!..
Луна, показавшаяся из разорванных туч, осветила жуткую, безотрадную картину. Повсюду поломанные снасти, повсюду лед. Паруса, шкоты и реи фок-мачты, еще державшиеся в своем гнезде, были окаймлены сосульками, и я испытал чуть не облегчение, что больше мне уже не придется тащить тяжелые снасти и разбивать лед, дабы мерзлые веревки могли пройти по мерзлым шкивам. Ветер, дувший с неудержимостью шторма, жег тело с силой, показавшей близость айсбергов. Огромные волны казались такими холодными в свете луны!
Баркас спускался с бакборта, и я видел, что матросы, хлопотавшие на обледенелой палубе около бочки с припасами, побросали припасы, торопясь убраться. Напрасно кричал на них капитан Николь! Огромная волна, хлынувшая с наветренной стороны, решила вопрос и заставила их кучками броситься за борт. Я схватил капитана за плечи и, держась за него, крикнул ему в ухо, что если он сядет в лодку и не даст людям отчалить, так я займусь провиантом.
Впрочем, времени оставалось мало. Мне едва удалось с помощью второго штурмана Аарона Нортрупа спустить полдюжины бочек и бочонков, как с лодки мне крикнули, что пора спускаться. И они были правы. С наветренной стороны на нас несло высокую, как башня, ледяную гору, а с подветренной стороны, близко-близко, виднелся другой айсберг, на который нас несло.
Аарон Нортруп поспешил прыгнуть первый. Я задержался на мгновение, чтобы выбрать место в середине лодки, где люди скучились гуще всего, — расчет был тот, что они своими телами смягчат мое падение. Я вовсе не желал отправляться со сломанной ногой в рискованное путешествие на баркасе! Чтобы лодка была свободней у весел, я проворно пробрался на корму. Впрочем, у меня для этого имелись другие, вполне уважительные, причины. На корме было куда уютнее, чем на узком носу! Наконец, лучше всего находиться на корме, ибо с носа следовало ожидать неизбежного в этих случаях волнения.
На корме находился штурман Уольтер Дрек, корабельный врач Арнольд Бентам, Аарон Нортруп и капитан Николь, сидевший у руля. Врач склонился над Нортрупом, лежавшим на дне и стонавшим. Прыжок его оказался весьма неудачным, и он сломал свою правую ногу у бедренного сустава.
Впрочем, им в эту пору некогда было заниматься, ибо мы плыли в бурном море между двумя островами льда, надвигавшимися один на другой. Николаю Вильтону, который греб, было тесно; я удобнее расставил бочки и, став на колени, прибавил своего веса к веслу. Впереди Джон Робертс трудился над носовым веслом. Схватив его за плечи, ему помогали сзади Артур Гаскинс и мальчик Бенни Гардуотер. Они так поглощены были этой задачей, что не раз, случалось, мешали движениям других гребцов.