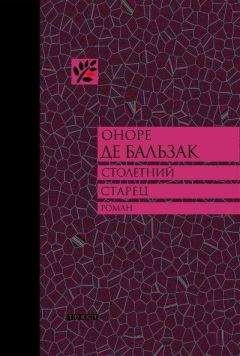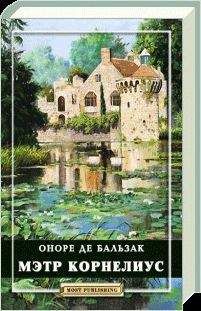Оноре Бальзак - Лилия долины
— Прекрасно! — воскликнул довольный аббат. — Господин Жак знает не меньше моего.
Закончив объяснения, Жак слегка закашлялся.
— На сегодня достаточно, дорогой аббат, — сказала взволнованная графиня, — и, пожалуйста, отложите урок химии. Теперь покатайся верхом, Жак, — добавила она, когда сын подошел, чтобы ее поцеловать, с ласковой, но сдержанной нежностью матери и обратила ко мне взор, словно желая уничтожить мои воспоминания. — Иди, милый, и будь осторожен.
— Однако вы не ответили мне, — сказал я, в то время как она следила за Жаком долгим взглядом. — Не чувствуете ли вы каких-нибудь болей?
— Да, иногда, в желудке. Если б я жила в Париже, то имела бы честь болеть гастритом — нынче самой модной болезнью.
— У маменьки часто бывают сильные боли, — сказала мне Мадлена.
— Как, — заметила графиня, — вас интересует мое здоровье?
Мадлена, удивленная глубокой иронией, прозвучавшей в этих словах, молча посмотрела на нее, а затем на меня; опустив глаза, я разглядывал розовые цветочки на обивке серо-зеленой мебели, украшавшей гостиную.
— Мое положение просто невыносимо, — прошептал я ей на ухо.
— Но разве это моя вина? — ответила она. — Милый друг, — добавила она громко, с тем коварным напускным оживлением, каким женщины приправляют свою месть, — разве вы не знаете современной истории? Ведь Франция и Англия — извечные враги. Даже Мадлена это знает, ей известно, что их разделяет широкое море, холодное и бурное.
Вазы на камине в гостиной были заменены подсвечниками, по-видимому, чтобы лишить меня удовольствия украшать камин цветами; позже я увидел вазы в спальне графини. Когда приехал мой слуга, я вышел, чтобы отдать кое-какие распоряжения; он привез мои вещи, и я хотел, чтобы он отнес их ко мне в спальню.
— Смотрите не ошибитесь, Феликс, — сказала графиня. — В прежней комнате тетушки теперь живет Мадлена. Вас поместили над спальней графа.
Несмотря на всю мою вину, у меня все же было сердце, и ее слова ранили меня, как удары кинжала, хладнокровно бившего в самые чувствительные места, которые она, казалось, нарочно выбирала. Не все одинаково переносят моральные пытки, их сила зависит от нашей душевной чуткости, и графине тяжело досталось знание всех оттенков страдания; но по той же причине лучшая из женщин становится тем более жестокой, чем великодушнее она была прежде; я посмотрел на графиню, но она опустила голову. Я вошел в мою новую спальню, красивую комнату, выдержанную в белых и зеленых тонах. Здесь я залился слезами. Анриетта услышала мои рыдания и вошла ко мне с букетом цветов.
— Анриетта, — сказал я, — неужели вы не в силах простить даже самую извинительную ошибку?
— Никогда не зовите меня Анриеттой, — ответила она, — бедной Анриетты больше нет, но вы всегда найдете госпожу де Морсоф, верного друга, готового любить и слушать вас. Феликс, мы поговорим позже. Если у вас еще есть хоть капля чувства ко мне, дайте мне привыкнуть к тому, что вы здесь; а потом, когда слова не будут так сильно терзать мое сердце, в час, когда я вновь обрету немного мужества, тогда, только тогда... Вы видите эту долину? — сказала она, показывая мне Эндр. — Мне больно смотреть на нее, но я все еще ее люблю.
— Ах, будь проклята Англия и все ее женщины! Я выпрошу отставку у короля и умру здесь, вымолив у вас прощение.
— Нет, любите эту женщину. Анриетты больше нет, это не шутка, вы скоро узнаете...
Она удалилась, но по тону этих слов я понял, как глубока ее рана. Я быстро вышел за ней, удержал ее и спросил:
— Значит, вы меня больше не любите?
— Вы причинили мне больше зла, чем все остальные вместе! Теперь я страдаю меньше, значит, и люблю вас меньше; но только в Англии не знают слов «навсегда» и «никогда»; здесь мы говорим: «навсегда!» Будьте разумны, не усугубляйте мою боль; а если вы страдаете, то подумайте обо мне — ведь я еще живу!
Я держал ее руку, холодную, неподвижную и влажную, она вырвала ее у меня и бросилась, как стрела, вдоль коридора, где происходила эта поистине трагическая сцена. Во время обеда граф подверг меня пытке, которой я никак не мог предвидеть.
— Разве маркизы Дэдлей сейчас нет в Париже? — спросил он.
Краска бросилась мне в лицо, когда я ответил:
— Нет.
— Где же она, в Турени? — продолжал он.
— Она не развелась с мужем и может вернуться в Англию. Ее муж был бы счастлив, если б она возвратилась к нему, — живо ответил я.
— У нее есть дети? — спросила г-жа де Морсоф изменившимся голосом.
— Двое сыновей.
— Где же они?
— В Англии, с отцом.
— А ну, Феликс, скажите откровенно, правда ли, что она так красива, как о ней говорят? — спросил граф.
— Как можно задавать подобные вопросы! Женщина, которую любишь, всегда бывает красивей всех на свете! — воскликнула графиня.
— Да, всегда, — сказал я с гордостью, бросив на нее взгляд, которого она не выдержала.
— Вы счастливчик, — продолжал граф. — Да, вам чертовски повезло! Ах! В молодости я был бы без ума от такой победы!..
— Довольно, — сказала графиня, указывая графу глазами на Мадлену.
— Я же не ребенок, — ответил граф, которому было приятно вспомнить свою молодость.
Выйдя из-за стола, графиня увела меня на террасу и, остановившись там, воскликнула:
— Как! Неужели есть женщины, которые жертвуют детьми ради мужчины? Отречься от состояния, от общества, это я понимаю: быть может, даже от вечного блаженства! Но от детей! Отречься от собственных детей!
— Да, такие женщины хотели бы отдать еще больше, они отдают все...
Для графини весь мир перевернулся, и мысли ее спутались. Потрясенная величием этой жертвы, подозревая, что обретенное счастье может возместить столь жестокие утраты, слыша в себе крики бунтующей плоти, она застыла, взирая на свою загубленную жизнь. Да, она пережила минуту ужасных сомнений; но она поднялась великая и чистая, высоко держа голову.
— Так любите же эту женщину, Феликс, — сказала она со слезами на глазах, — пусть она будет моей счастливой сестрой. Я прощаю ей причиненные мне страдания, если она дает вам то, чего вы никогда не могли найти здесь, чего вы уже не можете получить от меня. Вы были правы: я никогда не говорила, что люблю вас, и я никогда не любила вас так, как любят в этом мире. Но если она не мать, как может она любить?
— Дорогая Анриетта, ты святая, — ответил я. — Если б я не был так взволнован, я объяснил бы тебе, что ты паришь в небесах, высоко над ней; что она женщина земли, дочь грешного человечества, ты же дочь небес, обожаемый ангел; тебе принадлежит все мое сердце, а ей только моя плоть; она это знает, это приводит ее в отчаяние, и она поменялась бы с тобой, даже ценой самых мучительных пыток. Но все это непоправимо. Тебе я отдал душу, все помыслы, чистую любовь, мою юность и старость; ей — пылкие желания и наслаждения быстротечной страсти; тебе достанутся все мои воспоминания; ей — полное забвение.
— Говорите, о друг мой, говорите еще!
Она села на скамью и залилась слезами.
— Значит, добродетель, святость жизни, материнская любовь — это не заблуждение, Феликс! Ах, полейте еще этим бальзамом мои раны! Повторите слова, которые возносят меня на небеса, где я хочу парить вместе с вами! Благословите меня вашим взглядом, вашим словом — и я прощу вам все муки, которые перенесла за эти два месяца!
— Анриетта, в нашей жизни есть тайны, которых вы не знаете. Я встретил вас в том возрасте, когда голос чувства может на время заглушить желания нашей плоти; но несколько сцен, воспоминание о которых будет согревать меня и в мой смертный час, должны были убедить вас, что я перерос этот возраст, и ваши постоянные победы состояли в том, что вы умели продлить его невинные радости. Любовь без обладания обостряет наши желания, но наступает минута, когда мы испытываем только муку: ведь мы совсем не похожи на вас. В нас заложена сила, от которой мы не можем отречься, иначе мы перестанем быть мужчинами. Наше сердце, лишенное той пищи, которая его поддерживает, как бы само себя пожирает и становится бессильным; это еще не смерть, но ее преддверие. Нельзя долго обманывать природу; при малейшем толчке она пробуждается с яростью, похожей на безумие. Нет, я не полюбил, я умирал от жажды среди знойной пустыни.
— Пустыни! — сказала она с горечью, указывая на нашу долину. — Как умно он рассуждает, сколько тонких ухищрений! Тому, кто верен, не нужны все эти уловки!
— Анриетта, не будем спорить из-за какого-то неудачного выражения. Нет, душа моя не изменилась, но я потерял власть над своими чувствами. Этой женщине известно, что вы моя единственная возлюбленная. Она играет в моей жизни лишь второстепенную роль, она это знает и смиряется; я имею право покинуть ее, как бросают куртизанку.
— И тогда?
— Она сказала мне, что покончит с собой, — ответил я, думая, что это решение удивит Анриетту.
Но когда она услышала мои слова, на лице ее мелькнула презрительная улыбка, еще более выразительная, чем скрытые за ней мысли.