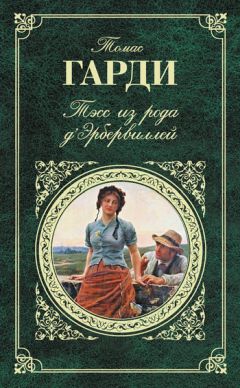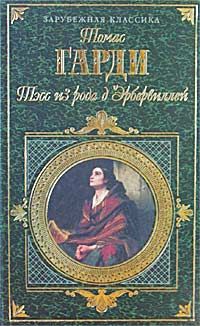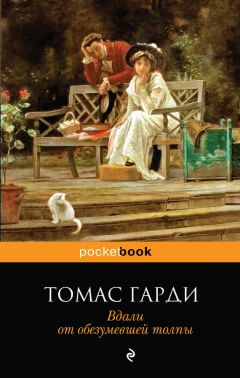Маргарет Рэдклифф-Холл - Колодец одиночества
— Ты все сказала, Стивен. Не думаю, что между нами может быть сказано что-то еще, кроме того, что мы не сможем вдвоем жить в Мортоне, теперь, когда я могу тебя возненавидеть. Да, хоть ты и мое дитя, но я могу тебя возненавидеть. Больше нам не место под одной крышей; одна из нас должна уйти — и пусть решится, кто это будет. — Она смотрела на Стивен и ждала.
Мортон! Они обе не могут жить в Мортоне. У девушки перехватило горло. Она глядела на мать, ошеломленная, и Анна глядела на нее, ожидая ответа.
Тогда Стивен собрала все свое мужество и сказала:
— Я понимаю. Я покину Мортон.
Анна указала дочери, чтобы та села рядом с ней, и заговорила, как все это должно совершиться, чтобы вызвать как можно меньше толков:
— Ради честного имени твоего отца мне придется просить тебя о помощи, Стивен.
Лучше будет, говорила она, чтобы Стивен взяла с собой Паддл, если Паддл согласится уехать. Они могут жить в Лондоне или где-нибудь за границей, под тем предлогом, что Стивен собирается учиться. Время от времени Стивен должна возвращаться в Мортон и посещать мать, и во время этих визитов они обе должны стараться, чтобы их видели вместе, ради приличия, ради ее отца. Она может взять из Мортона все, что ей понадобится — лошадей и все, что захочет. Часть ренты будет выплачиваться ей, если ее собственных доходов будет недостаточно. Все это должно произойти как можно пристойнее, без неподобающей спешки, без подозрения о том, что между матерью и дочерью образовалась брешь:
— Ради твоего отца я прошу тебя об этом, не ради тебя и не ради меня, но ради него. Ты согласна на это, Стивен?
И Стивен ответила:
— Да, я согласна.
Тогда Анна сказала:
— Теперь я хотела бы, чтобы ты меня оставила — я устала и хочу побыть одна, но потом я пошлю за Паддл, чтобы обсудить ее пребывание с тобой в будущем.
Стивен встала и вышла, оставив Анну Гордон одну.
2Будто следуя какому-то могучему врожденному инстинкту, Стивен отправилась прямо в кабинет отца; и она села в старое кресло, пережившее его; а потом закрыла лицо ладонями.
Все одиночество, которое она испытывала прежде, было ничтожно перед этим одиночеством души. Ее охватило беспредельное отчаяние, беспредельная потребность кричать и требовать понимания, найти ответ на загадку своего никому не нужного бытия. Все вокруг нее стало серым и обрушилось, и под этими развалинами лежала в крови ее любовь; постыдно раненая Анджелой Кросби, постыдно запятнанная и униженная ее матерью, жалкая, страдающая, беззащитная, она лежала в крови под этими развалинами.
Стивен ничего не видела, когда пыталась заглянуть в будущее, и цепенела, когда пыталась заглянуть в прошлое. Она должна уйти… она покинет Мортон. «Мортон, я покину Мортон, — монотонно колотились в ее мозгу слова, — я покину Мортон».
Массивный уютный дом больше не увидит ее, и сад, где она слушала кукушку, когда расцветало ее детское сознание, и озеро, где она в первый раз поцеловала Анджелу Кросби в губы, так, как целуют влюбленные. Добрые, сладко пахнущие луга с мирным скотом — она покинет их; и холмы, что защищают бедных несчастных влюбленных, милосердные холмы; и тропинки с сонными кустами шиповника по вечерам; и маленький старый городок, Аптон-на-Северне, с его церковью, покрытой боевыми шрамами, и с его желтоватой рекой; там она впервые увидела Анджелу Кросби…
Весна придет к Мортонскому замку и принесет сильные, чистые ветра на просторы общинных земель. Весна пройдется по всей долине, от холмов Котсуолда до Мэлвернов; она принесет с собой сотни и тысячи нарциссов, принесет колокольчики, чтобы рассыпать у озера под буками, принесет Питеру лебедят, чтобы тот защищал их; принесет солнечный свет, чтобы согреть старые кирпичи дома — но ее уже не будет здесь этой весной. Летние розы будут уже не для нее, и блестящий ковер осенних листьев, и прекрасный зимний наряд, в который облачаются буки: «Зимой эти озера замерзают, и лед на закате будет похож на слитки золота, когда мы с тобой будем стоять здесь зимними вечерами…» Нет, нет, только не вспоминать об этом, это слишком: «Когда мы с тобой будем стоять здесь зимними вечерами …»
Она поднялась на ноги и стала ходить по комнате, прикасаясь к добрым, знакомым вещам; она гладила стол, осматривала ручку, заржавевшую от долгого бездействия; потом она открыла ящик стола и вынула ключ от запертого книжного шкафа отца. Мать сказала, что она может взять то, что захочет — она возьмет одну или две из отцовских книг. Она никогда не осматривала этот книжный шкаф и не могла сказать, почему вдруг решила это сделать. Когда она вставила ключ в замок и повернула, это движение казалось странно машинальным. Она начала медленно вынимать книги, вяло, едва глядя на их названия. Это было какое-то занятие, вот и все — она думала, что пытается отвлечься. Потом она заметила, что на одной из нижних полок был ряд книг, стоявших отдельно от других; и она взяла одну из этих книг, посмотрела имя на обложке: Крафт-Эбинг — она никогда не слышала раньше о таком авторе. Она открыла потрепанную старую книгу, потом вгляделась пристальнее, потому что на полях были пометки отца, сделанные его мелким почерком ученого, и она увидела в них свое имя… Она резко села и начала читать. Она читала долго; потом вернулась к шкафу и взяла еще одну книгу, потом еще одну… Солнце садилось за холмы; в саду сгущались сумерки. В кабинете оставалось мало света для чтения, она поднесла книгу к окну и склонилась над страницами; но она продолжала читать и в сумерках.
Потом вдруг она поднялась на ноги и заговорила вслух — она говорила со своим отцом:
— Ты знал! Все это время ты знал обо всем, но из жалости не сказал мне. Ах, папа… значит, нас так много — тысячи несчастных, нежеланных, у которых нет права любить, нет права на сострадание, потому что они искалечены, страшно искалечены и обезображены. Бог жесток; он вложил в нас изъян, когда творил нас.
И затем, сама не зная, что делает, она отыскала старую, зачитанную Библию отца. Она встала, требуя небесного знамения — только знамения, и не меньше. Библия открылась почти в самом начале. Она прочла: «Господь поставил печать Свою на Каина…»
Стивен отложила Библию и опустилась в кресло, совершенно безнадежная и разбитая, она раскачивалась взад-вперед под резкий, но размеренный ритм этих слов: «Господь поставил печать Свою на Каина, — она раскачивалась в такт словам, — Господь поставил печать Свою на Каина, на Каина. Господь поставил печать Свою на Каина, на Каина…»
Вот какой увидела ее Паддл, когда вошла в кабинет, и Паддл сказала:
— Куда пойдешь ты, туда пойду и я, Стивен. Все, что ты испытываешь в эту минуту, я уже испытала. Я была тогда очень молодой, как ты — но все еще помню.
Стивен подняла на нее изумленный взгляд:
— Ты пошла бы с Каином, на которого Бог поставил печать Свою? — медленно спросила она, потому что не поняла, о чем говорит Паддл, и снова спросила: — Ты пошла бы вместе с Каином?
Паддл обняла поникшие плечи Стивен и сказала:
— У тебя полно работы — иди и работай! Ведь ты, будучи тем, что ты есть, можешь даже обнаружить в этом преимущество. Ты можешь писать, обладая удивительным двойным зрением — писать о мужчинах и о женщинах по личному опыту. Я уверена, что нет в этом мире ничего совершенно искаженного или обреченного — и все мы часть природы. Однажды мир это признает, но пока что впереди полно работы. Ради всех, кто подобен тебе, но не таких сильных и, может быть, не таких одаренных, ты должна быть смелой, чтобы доказать это, и я здесь, чтобы помочь тебе, Стивен.
Книга третья
Глава двадцать восьмая
Бледный отблеск солнца, лишенный теплоты, лежал по всей широкой реке, прикасаясь к дымку проходящего буксира, который неуклюже боронил воду; но вода не предназначена для того, чтобы ее пахать, и река снова смыкалась за буксиром, искусно стирая все следы его шумной и глупой деятельности. Деревья вдоль набережной Челси клонились и скрипели под резким мартовским ветром. Ветер гнал древесный сок внутри их ветвей, чтобы он струился с более определенной целью, но их кожа почернела и была испачкана сажей, поэтому у того, кто прикасался к ней, на пальцах оставалась сажа, и, зная об этом, они всегда были унылыми, а потому не сразу отвечали на зов ветра — это были городские деревья, а они всегда унылые. Справа на фоне бесцветного неба вырисовывались высокие фабричные трубы, которые любят молодые художники — особенно те, которым не хватает мастерства, потому что мало кто может испортить вид на фабричные трубы — а вокруг ручья в Баттерси-парке все еще стояла дымка, и все было едва различимо в тумане.
В большом, длинном, с довольно низким потолком кабинете, окна которого выходили на реку, сидела Стивен, вытянув ноги перед огнем и засунув руки в карманы жакета. Ее веки были опущены, она почти спала, хотя была середина дня. Она работала всю ночь — прискорбная привычка, которую Паддл не одобряла и была права, но, когда на Стивен находил рабочий настрой, было бесполезно с ней спорить.