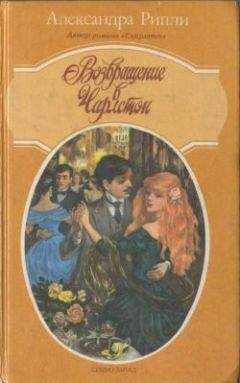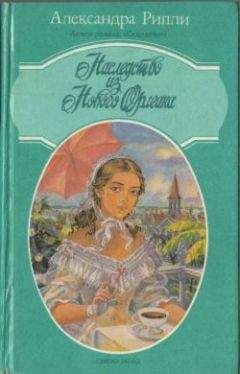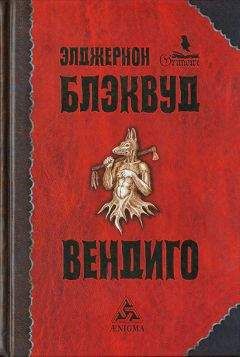Лоренс Даррел - Бальтазар
У Нимрода вырвалось торжествующее «Хх-хах!», чуть погодя: «Ценное наблюдение». Да, но кто эти прочие, выхваченные случайной вспышкой света из темноты? Мы смотрели на них, они — на нас, безо всякого выражения, без мысли, сквозь прорези в капюшонах — как снайперы.
«Ничего не выйдет», — сказал наконец со вздохом Бальтазар, и Нимрод выключил тихо гудящий аппарат. Несколько мгновений в полной темноте, и зажегся обычный электрический свет. На столе стопка отпечатанных на машинке страничек — протокол допроса, конечно же. На квадрате серого шелка несколько предметов, ключиков к мыслям, переполняющим нас: большая шляпная булавка с уродливой головкой из синего камня, колечко из слоновой кости — даже и сейчас я не смог бы смотреть на него без содрогания.
«Подпишите, — Нимрод указал мне на листочки на столе, — только прочитайте сперва, хорошо?» Он кашлянул в кулак и сказал тоном ниже: «И можете забрать кольцо».
Бальтазар передал мне колечко. Холодное, слегка запачканное порошком для снятия отпечатков пальцев. Я почистил его о галстук и сунул в жилетный кармашек. «Спасибо», — сказал я и пересел к столу, чтобы прочитать полицейский протокол; остальные закурили и принялись вполголоса что-то обсуждать. Рядом с протоколами лежал еще один листок — мелкий нервный почерк генерала Червони. Список приглашенных на карнавальный бал, в нем до сих пор звучит волшебная поэзия имен, что значат для меня теперь так много, имен александрийцев. Послушайте:
Пиа деи Толомеи, Бенедикт Данго, Данте Борромео, полковник Негиб, Тото де Брюнель, Вильмот Пьеррефо, Мехмет Адм, Поццо ди Борго, Ахмет Хассан Паша, Дельфина де Франкёй, Джамбулат Бей, Атэна Траша, Хаддад Фахми Амин, Гастон Фиппс, Пьер Бальбз, Жак де Гери, граф Банубула, Онуфриос Папас, Дмитрий Рандиди, Поль Каподистриа, Клод Амариль, Нессим Хознани, Тони Умбада, Балдассаро Тривицани, Гильда Амброн…
Читая, я проговаривал чуть слышно имена, добавляя про себя после каждого слова «убийца»: не подойдет ли часом? И только дойдя до имени Нессим, я запнулся, поднял глаза и посмотрел на темную стену — чтобы представить его лицо и всмотреться повнимательней, так же как мы всматривались в фотографии. Я хорошо запомнил выражение, которое было у него на лице, когда я помогал ему сесть в машину, — выражение проказливой безмятежности, как у человека, решившего расслабиться после серьезной траты сил.
ЧАСТЬ 4
ХII
Несмотря на время года, на набережных много света — длинная, полого скошенная линия Гранд Корниш упирается, чуть изогнувшись, в низкий горизонт; тысячи подсвеченных стеклянных панелей, за которыми, как яркие тропические рыбы, сидят за полированными столиками обитатели европейских кварталов, на столиках — стаканы с мастикой, анисовой и бренди. Стоило мне взглянуть на них (обедать я, считай, не обедал), и есть захотелось уже нестерпимо, а поскольку до встречи с Жюстин оставалось какое-то время, я толкнул расцвеченные бликами света двери «Алмазной сутры» и заказал сэндвич с ветчиной и виски. Уже в который раз, лишь только события внешнего мира всколыхнули внутреннюю, чувственную суть вещей, я стал смотреть на Город иными глазами, стал наблюдать формы и контуры жизни человеческих существ с азартом энтомолога, изучающего неизвестные доселе виды насекомых. Вот она передо мной, чудная раса, где каждый безоглядно ушел в решение собственных проблем, любовей, страстей и страхов. Женщина отсчитывает деньги на стеклянном столике, старик кормит с рук собаку, араб в красной феске задергивает шторы.
Тянуло ароматным дымком из маленьких матросских таверн, где поворачивались медленно туда-сюда железные вертела с жарким из начиненной травами требухи, где варились в котлах под сияющими медью крышками кальмары, голуби и рыбы. Пили здесь из голубых металлических кружек, а ели прямо руками, как и сейчас еще принято есть на Кикладах.
Я поймал допотопный кэб и не спеша поехал вдоль тихо вздыхающего моря в сторону Авроры, жадно вдыхая текучую смесь тьмы и света, густо настоянную на горьких травах, на страхах и воспоминаниях — многообразных, неуловимых, пряных; но глубже (как жаба под холодным камнем — под прохладными ночными сквознячками) дул тихо и ровно леденящий ветерок страха — за Жюстин, чья жизнь могла оказаться в опасности из-за любви, «навязанной нами друг другу». Я поворачивал эту мысль так и эдак, я пытался ее заглушить усилием воли — так заключенный в тюрьме налегает всем телом на стальную дверь, которая преграждает ему выход из мрака и смрада; я пытался подобрать ключ к ситуации, которая вполне могла разрешиться смертью — как ее смертью, так и моей собственной.
Роскошная машина ждала у дороги, в глубокой тени перечных деревьев. Она открыла дверцу, и я забрался внутрь, молчаливый пленник неотвязных страхов.
«Господи! — сказала она наконец и упала ко мне в объятия с тихим стоном, в котором — все. Теплый рот в темноте. — Ты ходил? Все в порядке?»
«Да».
Она включила зажигание, полетели камушки из-под колес, и машина, жемчужиной скользнув сквозь темную поверхность ночи, понеслась вдоль берега в пустыню. Пушистые всполохи света, света фар, отраженного от придорожных камней, деревьев, колодцев, вычерчивали мне ее резкий семитский профиль: часть Города, — а Город, мне теперь казалось, сплошь состоял из символов, странных продолжений наших душ и тел где-то по другую сторону, — минареты, голуби, статуи, корабли, монеты, верблюды и пальмы; в странной, внятной лишь малою частью своей геральдической связи с бескрайними одноцветными полями вокруг, с сухим песком и соленой водой моря и озера — это лицо принадлежало городу, как сфинкс принадлежит пустыне.
«Кольцо, — сказала она. — Ты его принес?»
«Да». — Я еще раз вытер его о галстук и надел на нужный палец. Вдруг, помимо воли, у меня вырвалось: «Жюстин, что с нами будет?»
Она бросила на меня диковатый взгляд исподлобья, как бедуинка, а потом улыбнулась ласково: «О чем ты?»
«Ты что, не понимаешь? Нам придется все это немедленно прекратить. Я с ума схожу от мысли, что тебе может угрожать опасность… Или я просто-напросто пойду прямиком к Нессиму и скажу ему…» Что я ему скажу? Этого я не знал.
«Нет, — сказала она мягко, — нет, конечно, ты этого не сделаешь. Ты ведь англосакс… ты не сможешь поставить себя вне закона, разве не так? Ты не из здешней глины слеплен. И кроме того, что такого ты бы мог сказать Нессиму, о чем он не догадывается, а то и не знает наверняка?.. Дорогой мой, — она положила теплую ладонь мне на запястье, — ты просто жди, люби меня, и все… потом посмотрим».
Как странно сознавать теперь, вспоминая и перенося на бумагу эту сцену, что она уже носила в себе (невидимкою, как зачатый и пустившийся в рост зародыш ребенка) смерть Персуордена: и губы Жюстин, насколько я понимаю, касались не моего лица, но лица, фотографии, гравюры — образа моего друга, посмертной маски писателя, который даже и не любил ее и смеялся над ней. Но демон любви — странный демон, и я не удивлюсь, если окажется, что эта смерть в каком-то смысле даже обогатила нас обоих, наши чувства, прибавив, как соли, тех маленьких лживых хитростей, коими женщины живут, — компост тайных радостей, тайных измен, что составляет неотъемлемую часть любой любви.
Да и было ли мне о чем сожалеть? Даже эта несчастная полулюбовь переполняла мое сердце — через край. Если кто и остался обижен, то она, не я. Как трудно понять подобные вещи. Собиралась ли она уже тогда уехать из Александрии? «Велика власть женщины, — пишет Персуорден, — если один-единственный поцелуй способен парафразировать правду жизни твоей и превратить ее…» — но имеет ли смысл продолжать? Я был счастлив, сидя с ней рядом, чувствуя тепло ее руки тыльной стороной ладони.
Темно-синюю ночь побила проседь звезд, и тихая, как дремлющий пес, пустыня разбежалась в обе стороны гротескными амфитеатрами — словно пустые залы в гигантском облачном замке. Луна в ту ночь вышла поздно и светила как-то тускло, воздух был недвижен — и острые края барханов. «О чем ты думаешь?» — спросила Жюстин.
О чем я думал? О фрагменте из Прокла: Орфей правил серебряной расой, то есть теми, кто жил «серебряной» жизнью; о стоящих на Бальтазаровой каминной полке меж щеточек для прочистки курительных трубок трех индийских резных, деревянных обезьянках, которые не видели зла, не говорили и не слышали — под магическим пентаклем Пифагора. О чем еще? О зародыше в его вощеной оболочке, о раскорячившейся на пшеничном колосе саранче, об арабской пословице, которая уже примерно с час крутилась у меня в голове, как в молитвенном барабане: «Память человека — ровесница его несчастий». Сонные перепелки разбредаются — опрокинулась клетка, — словно растекается по столешнице пролитый мед, даже и не пытаясь спастись. На Базаре Благовоний — запах персидской сирени.
«Четырнадцать тысяч лет назад, — сказал я вслух, — Вега в созвездии Лиры была Полярной Звездой. Посмотри, где она горит сейчас».