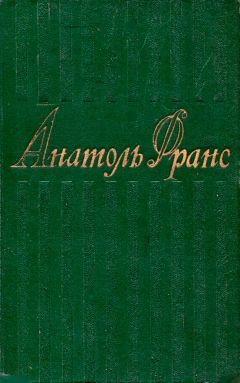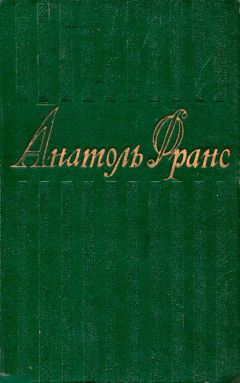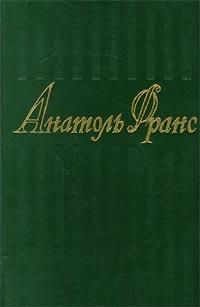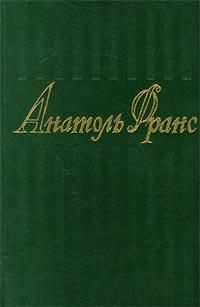Анатоль Франс - 1. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга моего друга.
Сент-Люси, юноша бывалый, ничему не удивлялся. Он пил, ему было тепло, он был доволен.
— Крайне сожалею, что не могу быть вам полезным, — отвечал он, — но я недавно из Нанта, учился там в пансионе, и понятия не имею о колониальном вопросе. К тому же вообще не пишу,
Дион изумился. Он не постигал, как можно не писать. И решил, что креолы — большие чудаки.
— А вот я в первом номере напечатаю свою «Неистовую любовь», — сказал он. — Вы знаете мою «Неистовую любовь»?
Я стар, я изнемог от горестей былых,
Мечтаю утонуть во мраке кос твоих.
— Неужели вы сами это сочинили? — воскликнул Сент-Люси с искренним восхищением. — Чудесно!
И он осушил кружку пива. Он был в восторге.
— А средства для журнала у вас есть? — спросил скептик Лабанн.
— Разумеется, — ответил поэт. — Бабушка дала мне целых триста франков.
Лабанн не нашелся что ответить. Он стал листать ветхие книжонки, которые купил еще днем в лавках на набережной.
— Прелюбопытная книжица, — сказал он, — рассматривая томик с красным обрезом, — сочинение Сомеза[83] — Salmasius'a, о ростовщичестве — de usuris. Преподнесу ее Браншю.
Тут все заметили, что нынче вечером в «Тощем коте» не видно Браншю.
— Как поживает бедняга Браншю с Тиком? — спросил поэт. — Все припадает к ногам русских княжен? Хоть бы статью написал для журнала.
Сент-Люси спросил Лабанна, кто такой Браншю с Тиком, не тот ли это преподаватель литературы, о котором недавно шла речь в «Гранд-отеле»?
— Тот самый. Да вы его увидите, молодой человек, — ответил Лабанн. — Запомните, что он зовется попросту Клодом Браншю. Нос у него длиннющий, вдобавок дрожит от нервного возбуждения и как-то странно — волнообразно — подергивается: потому-то мы его так и окрестили. Кстати, Браншю с Тиком, — муж стоический, как сам Катон Утический[84].
— Господин Сент-Люси, — сказал поэт, — я прочту вам свои стихи, мне хочется услышать ваше суждение до того, как они будут напечатаны.
— Не надо, не надо! — крикнул Мерсье, и его круглая рожица, полуприкрытая очками, сморщилась. — Читайте ему свои стихи, когда останетесь вдвоем.
Тут речь зашла об эстетике. Дион считал, что поэзия — язык «естественный и исконный». Мерсье ответил язвительным тоном:
— Не стихи, а крик — вот что такое язык первобытный и исконный. Первые люди на земле не завывали:
Я в божий храм вошел предвечного молить[85].
Говорили они так: «ух, ух, ух, ма, ма, ма, квак!» Подождите-ка, вы ведь не математик? Нет. Ну, так с вами и спорить нечего. Я спорю только с теми, кто владеет методом математического анализа.
Лабанн стал утверждать, что поэзия — возвышенное уродство, дивный недуг. Он считал, что изысканная поэма тождественна изысканному преступлению, вот и все.
— Позвольте, — перебил его Мерсье, поправляя очки, — а как у вас обстоит дело с математическим анализом? Судя по вашим ответам, я увижу, стоит ли вас опровергать.
А Сент-Люси, опустошив еще одну кружку, подумал: «Новые друзья у меня чудаки, но прелесть что за люди».
Он решительно ничего не понимал в споре, разгоравшемся все сильнее, и, потеряв запутанную нить словопрения, стал разглядывать посетителей с наивным и дерзким видом. Он встретился глазами с толстушкой Виргинией, которая стояла у дверей застекленной перегородки и, вытирая свои красные руки, томно смотрела на него.
Он подумал: «Прелесть, что за женщина!» А осушив еще одну кружку, окончательно утвердился в этом мнении.
Пивная пустела. Остались одни основатели журнала; перед ними на столе возвышались две стопки блюдечек, будто две фарфоровые башни, воздвигнутые в некоем китайском городе.
Виргиния уже собиралась закрыть ставнями витрину, как вдруг дверь распахнулась и вошел долговязый бледнолицый субъект в коротенькой летней куртке, с поднятым воротником. Он шагал, выбрасывая вперед огромные плоские ступни в дырявых ботинках.
— А вот и Браншю, — закричали основатели журнала. — Как поживаете, Браншю?
Вид у Браншю был угрюмый.
— Лабанн, — обратился он к скульптору, — вы, надеюсь, только по рассеянности унесли ключ от мастерской? Ведь если бы я не застал вас здесь, мне не миновать бы ночлега под открытым небом.
Браншю говорил с цицероновской изысканностью. А глаза его тем временем, по милости нервного тика, таращились с ужасающим выражением, по носу, от переносицы до ноздрей, пробегала судорога, зато из уст его исходили приятные и чистые звуки.
Лабанн отдал ему ключ и извинился. Браншю не пожелал выпить ни пива, ни кофе, ни коньяка, ни ликера. Ничего не пожелал выпить.
Дион попросил его написать статью для журнала, и моралиста пришлось долго упрашивать.
— Возьмите комментарий к Федону, что Браншю набросал угольным карандашом на стене моей мастерской, — сказал Лабанн, — спишите комментарий, а если хотите, можете отнести в типографию всю стену.
Как только Браншю перестали уговаривать, он обещал написать статью.
— Это будет, — заявил он, — оригинальнейшее исследование о философах.
Он откашлялся, по обыкновению ораторов, придвинул к себе пустой стакан и произнес с расстановкой:
— Моя точка зрения такова. Существуют две породы философов: те, которые стоят позади этого бокала, как, например, Гегель, и те, которые стоят между бокалом и мной, как, например, Кант. Вам понятна моя точка зрения?
Дион понимал его точку зрения, и Браншю продолжал:
— Знаете ли вы, что я делаю, когда философ — позади бокала…
Тут Виргиния поубавила свет в одном газовом рожке, погасила другой и возвестила, что уже половина первого ночи и что пора расходиться по домам. Браншю, Мерсье и Лабанн, нагнувшись, прошли друг за дружкой под опущенной железной шторой. А Сент-Люси, оставшийся в потемках наедине с Виргинией, обнял ее и несколько раз наугад поцеловал в шею и ухо. Сначала Виргиния отбивалась, а потом притихла, замерев в объятиях мулата.
Тем временем Браншю, шагая по тротуару, говорил Лабанну:
— Что ж, мне бокал поставить позади философа? Нет. Или философа поставить…
— Где же вы пропали, Сент-Люси? — крикнул поэт Дион, рассчитывавший, что по дороге домой будет услаждать слух креола своими стихами.
Но Сент-Люси не отозвался.
IV
В то утро шел снег. За витриной «Тощего кота» чуть слышался приглушенный шум колес. Скупой белесый свет падал на полотна, украшавшие стены, и чудилось, что на картинах изображены трупы. Реми сидел за столиком в пустой кофейне и уплетал бифштекс с картофелем, а Виргиния, сложив руки под белым передником, неподвижно стояла рядом и с благоговением наблюдала, как он ест.
— Хорош, не правда ли? — пылко вопрошала она. — Сыты ли вы? В кухне у меня припасен отличный ломтик холодного ростбифа, не угодно ли? Да вы ничего не пьете!
Он ел, он пил, а она с обожанием созерцала его. Она говорила:
— Отведайте швейцарского сыра; со слезой, вкусный. Господин Потрель ужасно любил швейцарский сыр со слезой.
И Реми ел. Виргиния подала на сладкое компот и фрукты. Она долго в самозабвенном восторге любовалась им, потом, вздохнув, промолвила:
— Пожалуй, я глупость сделала. Ведь вы поступите, как все мужчины, господин Сент-Люси. Все вы на один лад. Зато таких женщин, как я, на свете мало. Уж если привяжусь к кому, то на всю жизнь. Ведь я рассказала вам, как обошелся со мной Потрель. Честное слово, порядочные люди так не поступают! Чего я только для него не делала… Белье ему чинила, в огонь кинулась бы ради него. Ведь и ум-то у него был, и талант, и все прочее. А оказался неблагодарной тварью, вот и все!
И толстуха возвела скорбный взор к изображению Тощего Кота, будто призывая его в свидетели черной неблагодарности Потреля.
Ее необъятная грудь заколыхалась, тройной подбородок дрогнул, и она закончила глухим голосом:
— Подумать только, что и сама я не знаю, разлюбила ли его! Если и ты меня бросишь, ума не приложу, что со мной будет. Приходи вечерком, голубчик… Чего пожелаете, господа?
Последние слова она произнесла с улыбкой, обращаясь к двум вошедшим посетителям.
Сент-Люси блаженствовал. На экзаменах он провалился. Зато он грелся у гостеприимных очагов, смеялся сочным, чувственным смехом, развлекался всем, что видел и слышал, и ни о чем не тревожился. Виргиния не скрывала своего благоволения к Реми, и посетители «Тощего кота» стали относиться к нему с почтением. Женщины особой метой отмечают своих избранников.
Мастерская Лабанна казалась ему еще уютнее комнаты Виргинии. Правда, у Лабанна никогда не топилась печь. Реми это не нравилось, ибо он там рисовал и начал писать красками. Лабанн говорил: