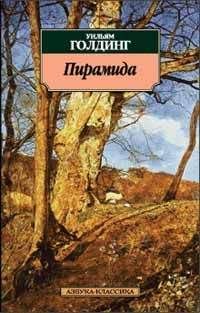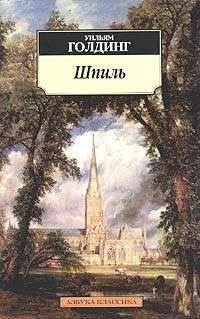Уильям Голдинг - Свободное падение
– Да, твоя Беатрис – наш старожил. Содержится здесь со дня основания клиники.
– Семь лет…
– С тех пор, как вы расстались… Находясь в состоянии, как мы констатируем, преувеличенного, неослабевающего беспокойства.
– С тех самых пор…
– Надеюсь, ты рад это слышать?
– Думаешь довести меня и поправить свои дела с Теффи?
– Я рад, что мы наконец говорим начистоту, без всяких яких. Да, меня влечет к ней.
– Знаю. Она мне сама сказала. Что ж, мы оба искренне сожалеем.
– К дьяволу твою жалость! И ее тоже.
– Тут уж ничего не попишешь…
– К дьяволу эту работу! И вообще – гори оно огнем… все на свете…
– Видишь ли, я сам ее об этом спросил. Иначе бы она тебя не выдала.
Кеннет отрывисто хохотнул:
– Разумеется, жена у тебя хоть куда – такая не подведет! Подхватит под руки, если тебе вздумается отпихнуть в сторону еще какого-нибудь сосунка.
– Знаешь, это было вовсе не так. Я совсем не собирался…
– Но своего, однако, добился.
– Считай, что да. Мне приснился сон. Это ведь не по твоей части? Впрочем, можешь дополнить историю болезни. Мистер X, бросивший мисс Y, видит сон. Она, спотыкаясь, торопится за ним, вода вокруг нее поднимается все выше и выше… Преувеличенное беспокойство, по-вашему. Причина неминуемо тащит за собой следствие. Прав был Ник, и мисс Прингл тоже права…
– Не понимаю, что ты городишь.
– А то, что я ее толкнул, я… Теперь уже ничего не поправишь, не переменишь. Невинные не властны прощать.
Криво усмехаясь, я глядел на Кеннета – и вдруг меня захлестнула теплая волна сочувствия к нему.
– Все путем, Кеннет. Да, я свое получил. Не впустую явился. И тебе большое спасибо.
– За что спасибо?
– За верность Гиппократу.
– За что, за что?
Внезапно передо мной возникла оплывшая Беатрис в зеленом балахоне – ее судорожные движения, прыгающие зрачки… Я прикрыл глаза рукой.
– За то, что сказал мне правду.
Кеннет вскочил, нервно прошелся до шкафа и обратно, потом снова плюхнулся в кресло.
– Послушай, Сэмми. Теперь вы оба не скоро меня увидите.
– Мне очень жаль.
– Ради Бога, не надо!
– Нет, я серьезно. Жаль, что редко когда разлад обходится без поножовщины.
– Я хочу сказать тебе еще одно: о предпосылках болезни – как это мне представляется. Суди сам. Возможно, именно ты выбил ее из колеи. Но, возможно, она и без того потеряла бы равновесие. Если бы ты не занял ее мысли собой, это могло случиться с ней годом раньше. Быть может, ты подарил ей целый год, лишний год душевного здоровья – и чего там еще в придачу… Быть может, она была бы счастлива До конца жизни, а ты у нее это отнял. Вот все: теперь ты осведомлен не хуже любого специалиста.
– Я благодарен тебе.
– Господи! Да я готов горло тебе перегрызть…
– Я думаю.
– Нет, не готов… Постой, не уходи. Мне надо с тобой поговорить. Выслушай меня, Сэм. Я люблю Теффи. Тебе это известно.
– Известно, но в голове не укладывается.
– Я сказал, что ненавижу тебя. Но это не так. Тут какой-то надрыв: мне ненавистна ваша совместная жизнь, ненавистен ваш дом. Мне хочется быть с вами. Если угодно, я люблю вас обоих.
– Для меня это чересчур сложно.
В ответ я постарался выжать из себя улыбку – вышла скорее гримаса: рот перекосило, губы скривились.
– Ну что ж…
– Сэмми.
Я обернулся, уже держась за ручку двери.
– Сэмми. Что же мне делать?
Я придал лицу приличествующее выражение. Бесполезно объяснять, что каждый человек – это целый континент. Нет смысла твердить, что каждое человеческое сознание – это настоящая Вселенная, ибо вмещает в себя множество Вселенных.
– Слишком многое можно сказать, Кеннет: и так, и эдак. Сплошная путаница. Но ты не задел нас так, чтобы стало больно. Рано или поздно – все пройдет. Все, что тебе предстоит сейчас пережить. Ничто из прошлого не заглянет тебе через плечо, ничто не даст тычка в зубы…
Кеннет злобно расхохотался:
– Спасибо тебе за «ничто»! Благодарить и впрямь не за что!
Я перешагнул порог и, притворяя за собой дверь, молча кивнул в знак согласия.
14
Я заготовил две речи: для каждого из моих родителей – родителей не по плоти, по духу. Первым делом я собирался к Нику – воздать ему должное. Мысли свои я изложил бы сдержанно, мягко:
«Ты выбрал рацио, разум – но не разумом. Выбрал потому, что тебе показали не того создателя. Да, знаю: ему возносили хвалу – мне ли не знать, как это делается? И Ровена Прингл без устали рассыпалась в похвалах: мне ли не знать, чего они стоят? В викторианских трущобах перед тобой разыграли пародию на творца – старец создатель, тотем покорявшего народы древнееврейского племени, тотем наших собственных праотцов – завоевателей и поработителей, хладнокровно подчинивших себе половину земного шара. Мне этот тотем знаком по одной немецкой картинке. Стоит навытяжку у артиллерийского орудия. К жерлу привязан индус: секунда, ветхозаветный тотем взмахнет рукой – и жалкий мятежник, пес, вздумавший огрызнуться на хозяина, разлетится в клочья. На ногах тотема – высокие сапоги, на голове – тропический шлем: он надменен, невежествен, лицемерен, жесток. Такого создателя ты отверг, как отвергло его и мое поколение. Но ты был наивен – наивен и добросердечен, как Джонни Спрэг, разлетевшийся в клочья на высоте в пять миль над родным Кентом. А ведь и он, и ты могли бы жить в одном мире одновременно. Тебя не опутали чудовищной сетью, внутри которой нас, виновных, заставляют пытать друг друга…»
Но Ник уже не вставал с постели: отказывало изработавшееся сердце. Мне и тогда казалось, что свое он недополучил: очутиться прикованным к больничной койке в захолустном городке сам он желал меньше всего. Я пришел к нему вечером и увидел издали, с порога палаты. Обложенный со всех сторон подушками, он подпирал рукой свою громадную голову. Свет от стоявшей позади электрической лампочки стлался по лобастому черепу снежным покровом прожитых лет, убеляя порошей густые ресницы. В их тени лицо казалось изможденным. Он вдруг предстал мне живым воплощением неустанно работающей мысли – и я в благоговении отступил. Масштаб и уровень того, что происходило с ним перед лицом смерти, были, я знал, несоизмеримы с моим ничтожеством. Я ушел, так и не прочитав вслух своего единственного стихотворного произведения.
Речь, обращенная к мисс Прингл, должна была быть предельно простой:
«Мы с тобой одной породы, вот так. Тебя заставили меня мучить. Ты лишилась свободы – и тебе пришлось поступать со мной именно так, не иначе. Тебе это ясно? А результат – вот он: Беатрис в закутке для полоумных – и это итог наших совместных усилий, моих усилий, всеобщих усилий. Неужели тебе не ясно, как наши несовершенства вынуждают нас терзать друг друга? Конечно же ясно! Невинные и тати – все живут в одном мире: Филип Арнолд теперь министр, и живется, и дышится ему легко. А мы с тобой не относимся ни к тем, ни к другим. Мы – виновные. Вина заставляет нас падать, ползать на четвереньках. Плача, мы рвем друг друга на части.
И потому я снова пришел к тебе: теперь мы оба взрослые, мы живем в двух мирах сразу. Я принес тебе мое прощение. Необходимо же когда-нибудь прервать линию страшной наследственности. Я прощаю тебе все, что ты сделала, прощаю безоговорочно: можешь пронзить меня насквозь. А я попытаюсь изъять тебя из нашего прошлого, словно ты к нему непричастна».
Но прощение должно быть не только даровано: нужно еще, чтобы его приняли.
Жила она теперь в нескольких милях от школы – в сельском домишке с камышовой крышей. Я отворил железную калитку и, едва ступив на узкую дорожку, услышал ее радостный возглас:
– Маунтджой!
Она сняла садовые перчатки и протянула мне белоснежную руку. Заготовленная речь, а заодно и все остальное мигом вылетело у меня из головы. Бывают люди, один вид которых парализует нас, будто цыплят, уткнувшихся клювом в меловую черту. Я сразу понял, что лучше прикусить язык, но тут же выяснилось и другое: я все еще недооценивал мисс Прингл – ее нынешние взгляды и суждения застали меня врасплох. Да, картина прошлого мало в чем у нас совпадала. Вот и Филип, и я сделались знаменитостями, и это доставляет ей как педагогу огромное удовлетворение. Ей приятно думать, что ее заботы о Сэмми… можно мне называть вас Сэмми? Я пробормотал «конечно» – конечно: ведь и мой клюв уткнулся в меловую черту. Да, ей приятно думать, что и ее заботы обо мне, пусть немного, хотя бы чуточку, самую что ни на есть крошечку (у гипсовой ванночки для птиц притулился гипсовый кролик), ну вот такусенькую капельку, помогли мне в создании прекрасных творений, какими я сумел осчастливить человечество.
Я думал уже только о том, как бы поскорее унести ноги. По спине у меня ползли мурашки. Мисс Прингл обладала прежней чудовищной силой: теперь ее похвала была для меня страшнее ее прежней ненависти. Я понимал, что говорить нам не о чем. Она одержала победу, какую трудно было предвидеть: самообман вытеснил из ее сознания все другое – и теперь она жила в одном-единственном, принадлежащем только ей мире.