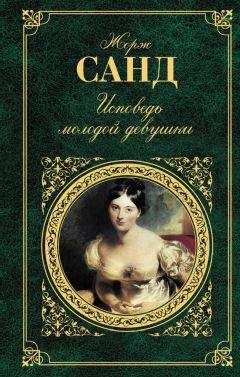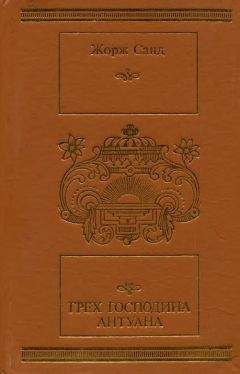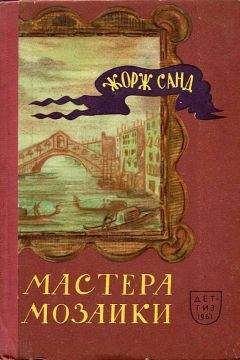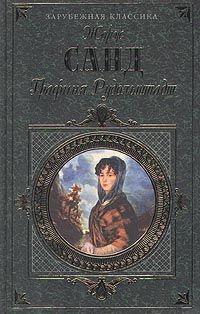Алексей Николаевич Толстой - Хмурое утро
Вадим Петрович тоже вытянул стакан спирту и без вкуса жевал сало. Всеми силами он подавлял в себе отвращение к этому страшному и смешному, поганому человеку… О таких он даже не читал ни в каких романах… Видишь ты, придумал про себя: «Мчусь в кровавом вихре…» Спирт разливался по крови, отпускались клещи, стиснувшие мозг, и на место почти уже автоматического, почти уже не действующего повеления: «Можешь, можешь», — находило уверенное легкомыслие.
— Ты все-таки брось со мной дурака валять, — сказал он Левке, — батька дал мне определенную директиву, я человек военный, загадок не люблю. Рассказывай — в чем там дело?
У Левки опять остановилась улыбка. Пухлая, с крупными порами, рука его повисла с бутылкой над стаканом:
— Советую тебе — меньше спрашивай, меньше интересуйся. Все предусмотрено.
— Значит, мне не доверяют? Тогда — какого черта!..
— Я никому не доверяю… Я батьке не доверяю… Ну, давай выпьем…
Раскрыв рот так, что край стакана коснулся нижних зубов, Левка медленно влил спирт в глотку. От него пахло сладкой прелью, сырым мясом с сахаром… Помотав пышными, насыщенными электричеством волосами, он начал выламывать куриную ногу.
— Я бы на твоем месте не принял этого поручения. Мало что — батько приказал. Батько любит дурить. Засыплешься, котик…
Рощин шибко ладонями потер лицо, рассмеялся.
— Советуешь уклониться? Может быть, пойти в уборную, да и выскочить на ходу?.. Как друг, значит, советуешь?
— А что ж… Я сказал, ты делай вывод…
— Дешевка, дешевка… Ты как думаешь — я смерти боюсь?
— А чего мне думать, когда я тебя насквозь вижу, ползучего гада… Спрячь зубы, вырву… Ну, наливай стакан…
Рощин с трудом глубоко вздохнул:
— Ты меня знаешь?.. Нет, Задов, ты меня не знаешь… Вот тебя поставить к стенке — вот ты-то, сволочь, завизжишь, как свинья…
Левка, приноровившись укусить курячью ногу, закрыл рот так, что стукнули зубы, вспотевшее лицо его обвисло.
— Покуда замечалось обратное, — проговорил он брюзгливо. — Покуда визжали другие. Интересно — не ты ли меня собираешься гробануть?
— Да уж попался бы мне месяца три назад…
— Нет, ты не виляй, белый офицер, договаривай до конца…
— Не терпится тебе, мясник?..
— Ну, жду, договаривай…
Говорили они торопливо. Оба уже дышали тяжело, подобрав ноги под койку, глядя с напряжением в зрачки друг другу. Свеча, прилепленная к откидному столику, потрескивала, и огонек начал гаснуть. Тогда Рощин заметил, что багровое Левкино лицо сереет, — он сказал глухо:
— А ну, выйдем в коридор… Выходи вперед.
— Не пойду…
— А ну…
— А ты не нукай, я не взнузданный…
Синенький огонек остался на кончике фитиля, как кощеева смерть. Левка, видимо, понимал, что в тесном купе у жилистого, небольшого Рощина все преимущества, если в темноте они кинутся друг на друга… Он заревел бычьим голосом:
— Встань… в коридор!
Дверь в купе дернули, — огонек свечи мигнул и разгорелся, — вошел Чугай.
— Здорово, братки. — Под усиками рот его усмехался, выпуклые глаза перекатывались с Левки на Рощина. — А я вас ищу по всему поезду.
Он сел рядом с Рощиным — напротив Левки. Взял пустую бутылку, встряхнул, понюхал, поставил.
— А чего невеселые оба?
— Характерами не сошлись, — сказал Левка, отворачиваясь от его насмешливого взгляда.
— Ты при нем вроде как комиссар?
— Не вроде, а поднимай выше, а ну — чего спрашиваешь.
— Тем более должен понимать — на какую ответственную работу везешь товарища. Характер надо придержать. Ты, браток, выйди из купе, я с ним без тебя хочу поговорить.
Чугай сидел плотно, — руки сложены на животе, ляжки широко раздвинуты; при огоньке свечи лицо его казалось розовым, как из фарфора, детская шапочка с ленточками чудом держалась на затылке. Он спокойно ожидал, когда Левка переживет унижение и подчинится.
Засопев, надутый, багровый, Левка угрожающе взглянул на Рощина, шумно поднялся и, блеснув в дверях лакированными голенищами, вышел. Чугай задвинул дверь:
— Чего вы с ним не поделили-то?
— А пустяк, — сказал Рощин, — просто напились.
— Так, правильно отвечаешь. Но вот что, браток, — ты поступил в мое прямое распоряжение, отвечать должен на каждый мой вопрос.
Чугай пересел напротив и близко у свечи развернул четвертушку бумаги, подписанную батькой Махно, где сбитыми машиночными буквами, с грамматическими ошибками, без знаков препинания, было сказано, что Рощин отчисляется в распоряжение военно-революционного штаба Екатеринославского района.
— Убедительно для тебя? (Рощин кивнул.) Вот и отлично. Скажи — что тебя привело в эту компанию?
— Это формальный допрос?
— Формальный допрос, угадал. Не зная человека, довериться нельзя, да еще в таком важном деле. Согласен? (Рощин кивнул.) Кое-какие справки я о тебе навел… Неутешительно: враг, матерый враг ты, браток…
Рощин вздохнул, откинулся на койке. За черным окном, где отражался огонек свечи, проносилась ночь, темная, как вечность. Ему стало спокойно. Тело мягко покачивалось. За эти трое суток, проведенных почти без сна, начинался третий допрос и, видимо, последний, окончательный. В конце концов какую правду он мог рассказать о себе? Сложную, запутанную и мутную повесть о человеке, выгнанном в толчки неизвестными людьми из старого дома — с той улицы, где он родился, из своего царства. Но так ли это? Не сам ли он взял себя за шиворот и швырнул в помойку? Чего он, собственно, испугался? Что он, собственно, возненавидел? Так ли нужен был ему для счастья и старый дом, и старое уютное царство? Не призраки ли они его больного воображения? Вспоминать — так ничего разумного не найти в его поступках за этот год и ничего оправдывающего. Здесь, в купе, не суд с присяжными заседателями и красноречивым адвокатом, взмахивающим романтической гривой. Здесь с глазу на глаз нужно сделать почти невозможное — рассказать правду, не о поступках маленького человека, — это не важно, в этом разговоре они не в счет, — но о своем большом человеке… Здесь ты и подсудимый, и сам себе судья… И не важен и практический вывод из этого разговора, — если уж дошло дело до большого человека…
— Ты чего бормочешь про себя, говори уж вслух, — сказал Чугай.
— Нет, я не враг, это слишком просто, — проговорил Рощин, прижимаясь затылком к спинке койки. — У врага — цель, злоба, коварство… Вопрос хочу вам задать…
— Давай.
— Я вам нужен как военный спец?
Чугай помолчал, разглядывая его лицо с глубокими тенями во впадинах щек.
— А ты сам как ответишь?
— Думаю, что нужен, и в особенности не батьке, а вам.
— Ты меня лучше тыкай, мне легче разговаривать-то.
— Ладно, буду тыкать.
— Батька сказал, что ты будто по мобилизации попал в Добровольческую армию, убежденный анархист, и происхождения вроде даже подходящего…
— Все это вранье… Происхождения самого неподходящего. В Добрармию пошел по своей охоте. И ушел по своей охоте.
— Стыдно стало?
— Нет… А ты чего мне подсказываешь? Я за соломинку не цепляюсь, — давно уж на дне… Если бы верить в возмездие за грехи тяжкие!.. Нет у меня даже этого утешения…
— Налютовал, что ли, много?
— Было, было… Всю жизнь я требовал от себя честности, моя честность оказалась бесчестьем… И все так, — перевернулось с живота на спину, из белого стало черным…
— Биографию, браток, расскажи для порядка.
— Кончил Петербургский университет… Юрист… Ах, вам нужно о происхождении… Помещик, из мелкопоместных. После смерти матери продал последние крохи — дом, сад и могилы за оградой. Вышел из полка… Ну, что еще… Был, как все мало-мальски порядочные люди, либералом… (Вадим Петрович брезгливо поморщился.) Будущей революции, разумеется, сочувствовал, даже во время забастовок, — в тринадцатом, что ли, году, — открыл форточку и крикнул проходящим конным полицейским: «Палачи, опричники…» Вот вроде как этим и ограничилась моя революционная деятельность… Зачем было особенно торопиться, когда и так жилось сладко… (На этот раз у Чугая дрогнули усики.) Нет, уж ты погоди мной брезговать… Я говорю честно. Я все-таки бокалов с шампанским на банкетах не поднимал за страждущий русский народ. А в семнадцатом на фронте от стыда и позора сошел с ума. В окопах два с половиной года просидел, не подав рапорта… И шелкового белья от вшей не носил.
— Заслуга.
— А ты не издевайся, обойдись без этого… (Вадим Петрович сморщил лоб. Глубокими тенями избороздилось его худое лицо). Ты ответь: что для тебя родина? Июньский день в детстве, пчелы гудят на липе, и ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в тебя… Русское небо над русской землей. Разве я не любил это? Разве я не любил миллионы серых шинелей, они выгружались из поездов и шли на линию огня и смерти… Со смертью я договорился, — не рассчитывал вернуться с войны… Родина — это был я сам, большой, гордый человек… Оказалось, родина — это не то, родина — это другое… Это — они… Ответь: что же такое родина? Что она для тебя? Молчишь… Я знаю, что скажешь… Об этом спрашивают раз в жизни, спрашивают — когда потеряли… Ах, не квартиру в Петербурге потерял, не адвокатскую карьеру… Потерял в себе большого человека, а маленьким быть не хочу, — стреляй, если хоть в одном моем слове смущен… Серые шинели распорядились по-своему… Что мне оставалось? Возненавидел! Свинцовые обручи набило на мозг… В Добрармию идут только мстители, взбесившиеся кровавые хулиганы… «Так за царя, за родину, за веру мы грянем громкое ура…» И — на цыганской тройке за расстегаями к Яру…