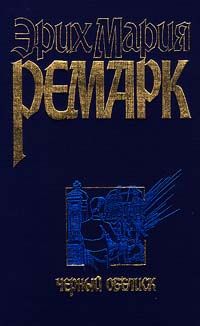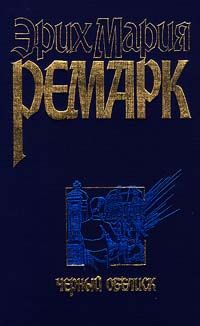Эрих Ремарк - Черный обелиск
Вилли и я потеряли потом невинность в Хутхульсте, во Фландрии, в каком-то кабачке, причем Вилли заразился триппером, попал в лазарет и таким образом избежал участия в сражении во Фландрии, где пали семнадцать девственников.
Уже тогда мы убедились, что добродетель не всегда награждается.
x x x
Мы идем среди теплого сумрака летней ночи. Отто Бамбус держится поближе ко мне, ибо я — единственный, кто признается, что бывал в борделе. Остальные тоже бывали, но разыгрывают неведение, а единственный человек, утверждающий, что он там ежедневный гость, драматург Пауль Шнеевейс, творец замечательного в своем роде произведения «Адам», попросту врет: никогда он в таком доме не был.
Руки у Отто потные. Он ожидает встретить там жриц наслаждения, вакханок и демонических хищниц и втайне побаивается, что вдруг у него вырвут печень или по меньшей мере кастрируют и затем увезут домой в «опеле» Эдуарда. Я успокаиваю Отто.
— Повреждения наносятся не больше одного-двух раз в неделю, Отто, и они почти всегда гораздо более безобидные. Позавчера, например, Фрици оторвала гостю одно ухо; но, насколько мне известно, уши опять можно пришить или их заменяют целлулоидными, причем сходство такое, что не отличишь.
— Ухо? — Отто останавливается.
— Разумеется, есть дамы, которые не отрывают ушей, — отвечаю я. — Но ведь с такими ты не хочешь знакомиться. Ты ведь хочешь иметь первобытную женщину, во всем ее стихийном великолепии.
— Ухо — это довольно серьезная жертва, — заявляет Отто; он похож на потеющую жердь и то и дело протирает стекла своего пенсне.
— Поэзия требует жертв. С оторванным ухом ты стал бы действительно полнокровным лириком. Пошли!
— Да, но ухо! Ведь сразу будет заметно!
— Если бы мне предоставили выбор, — говорит Ганс Хунгерман, — я предпочел бы, чтобы мне оторвали ухо, чем кастрировали.
— Что? — Отто снова останавливается. — Да вы просто шутите! Этого же не может быть!
— Нет, бывает! — настойчиво говорит Хунгерман. — Страсть на все способна. Но ты, Отто, успокойся: кастрация — дело подсудное. Женщине дают за это, по крайней мере, несколько месяцев тюрьмы — так что ты непременно будешь отомщен.
— Глупости! — запинаясь, произносит Бамбус и заставляет себя улыбнуться. — Вы просто морочите мне голову своими дурацкими шутками!
— А зачем нам морочить тебе голову? — отвечаю я. — Это было бы низостью. Поэтому я и рекомендую твоему вниманию именно Фрици. У нее своеобразный фетишизм: когда ею овладевает страсть, она судорожно хватается обеими руками за уши партнера. И ты можешь быть с нею абсолютно спокоен, что больше ни в каком месте не получишь повреждений. Ведь третьей руки у нее нет.
— Зато есть еще две ноги, — подхватывает Хунгерман. — Ногами женщины иногда просто чудеса делают. Они отращивают ногти и потом оттачивают их.
— И все вы врете, — говорит Отто с тоской. — Бросьте наконец городить вздор!
— Слушай, — говорю я. — Мне не хочется, чтобы тебя искалечили. Правда, эмоционально ты обогатишься новым опытом, но душевные силы утратишь и лирика твоя от этого очень пострадает. У меня тут есть карманная пилка для ногтей, маленькая удобная вещица, предназначенная для бонвивана, который всегда должен быть элегантен. Сунь ее в карман. А потом держи зажатой в ладони или предварительно спрячь под матрац. Если ты заметишь, что тебе грозит серьезная опасность, достаточно легкого, безвредного укола в зад. И вовсе не нужно, чтобы текла кровь, Фрици сейчас же выпустит тебя. Каждый человек, даже если его куснет комар, сейчас же потянется рукой к укушенному месту — это один из основных законов жизни. А тем временем ты удерешь.
Я вынимаю из кармана футлярчик красной кожи, в котором лежат гребень и пилка для ногтей. Это еще подарок Эрны, предательницы. Гребень — имитация черепахового. Когда я извлекаю его из футляра, во мне поднимается волна запоздалого гнева.
— Дай мне и гребень, — говорит Отто.
— Да ведь гребнем ты же не можешь ударить ее, о невинный сатир, — замечает Хунгерман. — Это не оружие в борьбе полов. Он сразу сломается о напрягшуюся плоть менады.
— Не буду я им наносить удары. Я потом просто причешусь.
Мы с Хунгерманом переглядываемся, Бамбус, видимо, нам уже не верит.
— У тебя есть с собой хоть несколько перевязочных пакетов? — спрашивает меня Хунгерман.
— Они не понадобятся. У хозяйки целая аптека.
Бамбус снова останавливается.
— Все это чепуха. А вот как насчет венерических заболеваний?
— Сегодня суббота. Сегодня после обеда все дамы прошли осмотр. Нет никакой опасности, Отто.
— И все-то вы знаете! Да?
— Мы знаем то, что в жизни знать необходимо, — отвечает Хунгерман. — И обычно эти знания совсем не то, чему нас учат в школах и разных пансионах. Поэтому из тебя и получился такой уникум, Отто.
— Мне дали слишком религиозное воспитание, — вздыхает Бамбус. — Пока я рос, меня все время пугали адом и сифилисом. Ну как тут создавать сочную, земную лирику?
— Тебе следовало бы жениться.
— Это мой третий комплекс. Страх перед браком. Моя мать свела моего отца в могилу. И только одними слезами. Разве это не удивительно?
— Нет, — отвечаем мы с Хунгерманом одновременно и по этому случаю жмем друг другу руку, примета, означающая, что мы непременно проживем еще семь лет. А жизнь, хорошая или плохая, все равно есть жизнь, это замечаешь, только когда вынужден ею рисковать.
x x x
Перед тем как войти в этот с виду столь уютный дом, с его тополями, красным фонарем и цветущими геранями на окнах, мы делаем несколько глотков водки, чтобы подкрепиться. Прихваченную с собой бутылку пускаем вкруговую. Даже Эдуард, который уехал вперед на своем «опеле» и ждет нас, выпил с нами; ему так редко перепадает даровое угощение, что теперь он пьет с наслаждением. Та же водка, которая сейчас обходится нам примерно в десять тысяч марок за стаканчик, через минуту будет в борделе стоить сорок тысяч, — поэтому мы и взяли ее с собой. До порога дома мы наводим экономию, а потом уже попадаем в руки мадам.
Отто испытывает горькое разочарование. Вместо гостиной он ожидал увидеть восточную инсценировку: леопардовые шкуры, висячие светильники, душные ароматы; и хотя дамы одеты весьма легко, они скорее напоминают горничных. Он спрашивает меня шепотом, нет ли в доме негритянок или креолок.
Я указываю на сухопарую брюнетку:
— Вон та — креолка. Она пришла сюда прямо из тюрьмы. Убила своего мужа.
Однако Отто не очень-то верит мне. Он оживляется только, когда входит Железная Лошадь. Это внушительная особа; на ней высокие зашнурованные ботинки, черное белье, нечто вроде костюма укротительницы львов, серая смушковая шапка, рот полон золотых зубов. Несколько поколений молодых поэтов и редакторов в ее объятиях сдавали экзамен на жизнь, поэтому и сегодня совет клуба предназначил для Отто именно ее. Или же Фрици. Мы настояли на том, чтобы Лошадь облеклась в свои пышные доспехи, и она не подвела нас. Когда мы знакомим ее с Отто, она озадачена. Вероятно, Железная Лошадь ожидала, что мы предложим ей существо более юное и свежее. А Бамбус точно сделан из бумаги, он бледен, тощ, прыщеват, с жидкой бородкой, и ему уже двадцать шесть. Кроме того, у него выступают капли пота, как у редьки, когда ее посолишь. Железная Лошадь раскрывает свою золотую пасть, добродушно усмехается и толкает дрожащего Бамбуса в бок.
— Пойдем, угости коньячком, — миролюбиво говорит она.
— А что стоит коньяк? — спрашивает Отто официантку.
— Шестьдесят тысяч.
— Сколько? — испуганно переспрашивает Хунгерман. — Сорок тысяч, и ни пфеннига больше!
— Пфенниг, — замечает хозяйка, — давно я этого слова уже не слышала.
— Сорок тысяч он стоил вчера, дорогуша, — заявляет Железная Лошадь.
— Сорок тысяч он стоил еще сегодня утром. Я был здесь по поручению комитета.
— Какого комитета?
— Комитета по возрождению лирики через непосредственный опыт.
— Дорогуша, — отвечает Железная Лошадь, — это было до объявления курса.
— Это было после того, как в одиннадцать часов объявили курс.
— Нет, до послеобеденного курса, — поддерживает ее хозяйка. — Не будьте такими скупердяями.
— Шестьдесят тысяч — это уже по тому курсу доллара, который будет послезавтра, — говорю я.
— Нет, завтра. С каждым часом ты приближаешься к нему. Успокойся! Курс доллара неотвратим, как смерть. Ты не можешь от него уклониться. Тебя, кажется, зовут Людвиг?
— Рольф, — решительно отвечаю я. — Людвиг с войны не вернулся.
Хунгерманом вдруг овладевает недоброе предчувствие.
— А такса? — спрашивает он. — Как на этот счет? Ведь договорились на двух миллионах. С раздеванием и получасовым разговором потом. Разговор этот для нашего кандидата очень важен.