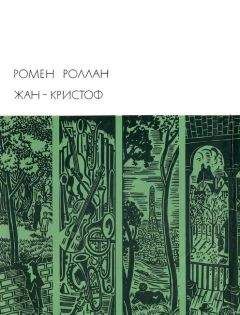Ромен Роллан - Жан-Кристоф. Книги 6-10
— Я отлично знаю, — отвечал Кристоф, — что музыканты меньше всего любят музыку; но, пожалуйста, не уверяй меня, что во Франции такие люди, как ты и Арно, — обычное явление.
— Таких тысячи.
— Значит, это просто эпидемия, последняя мода?
— Нет, не мода, — заметил Арно. — «Если кто-нибудь, внимая сладостной гармонии инструментов или нежным звукам человеческого голоса, не радуется, не возмущается и не трепещет с головы до ног, восхищенный и как бы ставший вне себя, это верный знак того, что душа у него лживая, порочная и развращенная и следует его остерегаться, как рожденного под недоброй звездой…»
— Знаю, откуда это, — заявил Кристоф, — из моего друга Шекспира.
— Нет, — мягко возразил Арно, — это сказал наш Ронсар{42}, который жил до Шекспира. Как видите, для Франции это довольно старая мода.
Но еще больше, чем любви французов к музыке, Кристоф удивлялся тому, что и любят-то они примерно ту же музыку, что и немцы. В среде парижских музыкантов и снобов, которых он только и видел до сих пор, считалось хорошим тоном относиться к немецким мастерам, как к знатным иностранцам, и, восхищаясь ими, все же держать их на расстоянии; здесь охотно иронизировали над тяжеловесностью Глюка и варварством Вагнера; им противопоставлялась французская утонченность. И Кристоф, ознакомившись ближе с французской манерой исполнения, в конце концов усомнился, да понимают ли вообще во Франции немецкую музыку. Однажды он вернулся с постановки Глюка просто возмущенный: эти ловкачи-французы ухитрились подрумянить грозного старца! Они принарядили его, украсили бантами, обложили ватой его суровые ритмы, уснастили его музыку импрессионистскими полутонами, изощренной порочностью! Бедный Глюк! Что осталось от его горячего красноречия, душевной чистоты, неприкрытых мук? Неужели французы не способны почувствовать все это? — думал тогда Кристоф. А теперь он открыл в сердце своих новых друзей глубокую и нежную любовь к самому сокровенному, что было в германской душе, в старых Lieder, в немецких классиках. И он спросил: так, значит, неправда, что эти немцы им чужды и что француз может любить только мастеров своей нации?
— Неправда! — горячо запротестовали они. — Это наши критики берут на себя смелость писать от нашего имени. И так как они сами раболепствуют перед модой, то утверждают, что и мы следуем их примеру. Но нам до них так же мало дела, как и им до нас. Это просто шуты гороховые, которые берутся учить нас тому, что следует считать французским и что нет. Нас, французов старой Франции! Они объясняют нам, что наша Франция — это Рамо или Расин, а не кто-либо другой! Как будто Бетховен, Моцарт или Глюк не приходили посидеть и у нашего камелька, не проводили бессонных ночей у постели наших близких, не страдали вместе с нами, не воскрешали наших надежд! Как будто они не стали своими в нашей семье! Если говорить начистоту, то уж скорее какой-нибудь французский художник, столь превозносимый нашими парижскими критиками, чужд нам.
— Правда заключается в том, — сказал Оливье, — что если для искусства и существуют границы, это не столько преграды национальные, сколько преграды классовые. Я не знаю, существует ли особое французское искусство и особое немецкое, но я знаю, что есть искусство богатых и искусство тех, у кого нет богатства. Глюк — великий человек из буржуазной среды, он принадлежит к нашему классу. А некий французский композитор, которого я не хочу называть, к нему не принадлежит; и хотя он родился в семье буржуа, он стыдится нас, отрекается от нас; а мы, мы отрекаемся от него.
Оливье был прав. Чем больше Кристоф узнавал французов, тем больше поражался сходству между честными французами и честными немцами. Чета Арно напоминала ему дорогого старого Шульца с его любовью к искусству, такой чистой, такой бескорыстной, с его самозабвенной преданностью всему прекрасному. И он полюбил их в память Шульца.
Убедившись в нелепости моральных преград между честными людьми разных национальностей, Кристоф увидел также, насколько нелепы преграды, возникающие между честными людьми одной и той же национальности, но разных взглядов. Благодаря ему, хотя и без его стараний, два человека, казавшиеся особенно чуждыми друг другу и неспособными к взаимопониманию — аббат Корнель и г-н Ватлэ, — познакомились и сошлись ближе.
Кристоф брал у обоих книги и с бесцеремонностью, шокировавшей Оливье, передавал книги одного — другому. Аббат Корнель этим не возмущался: он умел проникать в людские сердца и, незаметно для своего молодого соседа, угадал в душе Кристофа всю глубину его великодушия и даже неведомой самому музыканту религиозности. Сближение началось с взятой у г-на Ватлэ книжки Кропоткина{43}, которую — правда, по разным причинам — любили все трое. Однажды аббат и г-н Ватлэ случайно встретились у Кристофа. Сначала Кристоф опасался, как бы его гости не наговорили друг другу каких-нибудь колкостей. Но те, наоборот, были друг с другом чрезвычайно любезны. Они беседовали на самые безобидные темы: о своих путешествиях, о встречах с людьми. И открыли друг в друге сердце, исполненное снисхождения, евангельской кротости и несбыточных надежд, хотя особых оснований для надежд у них не было. И между ними возникла взаимная, чуть ироническая симпатия, но симпатия очень сдержанная. Никогда не касались они сути своих верований. Виделись редко и не искали встреч, но когда встречались, то оба испытывали удовольствие.
Оказалось, что аббат обладал большей внутренней независимостью, чем г-н Ватлэ. Кристоф никак этого не ожидал. Перед ним понемногу раскрывалось величие религиозного и свободного мышления аббата, его мощный и светлый мистицизм, лишенный всякой горячности, пронизывавший все помыслы священника, все поступки его повседневной жизни, все его представления о вселенной и побуждавший его жить во Христе, как, согласно его вере, Христос жил в боге.
Он ничего не отрицал — ни одной из сил, действующих в жизни. Для него все писания, древние и современные, религиозные и светские, от Моисея до Вертело{44}, были достоверными, божественными, были проявлением бога. Священное писание являлось только одним из наиболее ярких образцов такого рода, подобно тому как церковь была наиболее высокой избранницей объединившихся в боге братьев; но ни Писание, ни церковь не замыкали дух в косной истине. Христианство было для него живым Христом. История мира была только историей неуклонного роста и расширения идеи божьей. Разрушение Иерусалимского храма, гибель языческого мира, неудача крестовых походов, пощечина Бонифацию VIII{45}, Галилей, бросивший нашу землю в беспредельные пространства, мощь бесконечно малых частиц по сравнению с большими, конец королевской власти и конкордатов{46}, — все это на время сбивало с пути сознание людей. Одни с отчаянья цеплялись за то, что было обречено на гибель, другие хватались за какую-нибудь случайную доску и плыли по воле волн. Аббат Корнель только спрашивал себя: «Что сейчас исповедуют люди? Что помогает им жить?» — ибо верил: «Где жизнь, там и бог». Вот почему он почувствовал симпатию к Кристофу.
Со своей стороны, и Кристоф с радостью слушал прекрасную музыку, какой полна возвышенная религиозная душа. Она будила в нем отдаленные и глубокие отзвуки. Случилось так, что вследствие его постоянного стремления живо отзываться на всё, — у сильных натур подобные реакции это инстинкт жизни, инстинкт самосохранения, как бы тот удар весла, который восстанавливает равновесие и дает лодке новое направление, — омерзительный парижский сенсуализм и неудержимый рост скептицизма вот уже два года, как воскресили бога в сердце Кристофа. Не то чтобы он поверил в него. Он отрицал бога. Но он был полон им. Аббат Корнель говорил ему, улыбаясь, что, подобно доброму великану, его патрону, он, сам того не ведая, несет бога в себе.{47}
— Почему же я не вижу его? — спрашивал Кристоф.
— Вы — как миллионы других людей: вы видите его каждый день, хотя и не подозреваете, что это он. Бог открывается под самыми различными формами: одним — в повседневной жизни, как святому Петру в Галилее{48}; другим (например, вашему другу Ватлэ) — как святому Фоме, в осязаемых ранах{49} и в бедах, которые нужно исцелять; вам — в величии вашего идеала: «Noli me tangere»[23]. Наступит день — и вы узнаете его.
— Никогда я не отрекусь от своих взглядов, — отвечал Кристоф. — Я свободный человек!
— А с богом вы еще свободнее! — спокойно отвечал священник.
Но Кристоф не допускал, чтобы из него можно было сделать христианина помимо его воли. Он защищался с наивной горячностью, как будто тот или иной ярлык, наклеенный на его мысли, мог что-либо изменить. Аббат Корнель слушал его с легкой, едва уловимой, чисто пастырской иронией и с большой добротой: у него был неиссякаемый запас терпения, вошедшего, как и вера, в его плоть и кровь. Испытания, постигавшие современную церковь, закалили его; хотя они повергли его в искреннюю печаль и заставили пережить мучительные душевные потрясения, они не затронули глубин его веры. Конечно, тяжело было сознавать, что начальники притесняют тебя, что епископы следят за каждым твоим шагом, что свободомыслящие стараются воспользоваться твоими взглядами и борются твоим же оружием против твоей веры, что ты не понят и преследуем и твоими единоверцами, и врагами твоей религии. Противиться невозможно, ибо нужно покоряться. Но покоряться искрение тоже невозможно, ибо знаешь, что старшие ошибаются; поэтому нельзя молчать. И нельзя говорить — из страха быть понятым неправильно. Тем более, если иметь в виду другие души, за которые отвечаешь, которые ждут от тебя совета, помощи и чьи страдания ты видишь. Аббат Корнель страдал вдвойне — за них и за себя, но все-таки смирялся. Что значат в сравнении с многовековой историей церкви нынешние испытания? Однако, замыкаясь в безмолвной покорности, он как-то захирел, становился робким, боялся высказывать свои взгляды, а это затрудняло ему каждый шаг, и он все больше погружался в оцепенение. Он с грустью замечал это, но не боролся. Знакомство с Кристофом явилось для него огромной поддержкой. Тот юношеский пыл, тот дружеский и простодушный интерес, с каким отнесся к аббату его сосед, его вопросы, подчас даже слишком прямолинейные, действовали на аббата целительно. Кристоф уговаривал его возвратиться в общество живых.