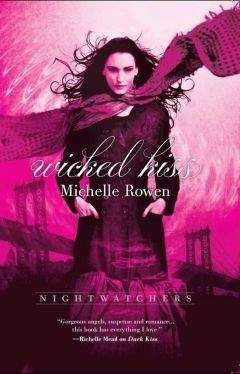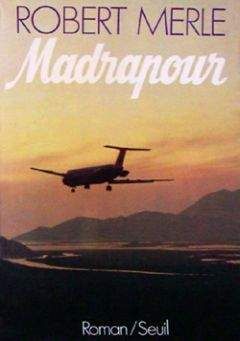Фёдор Степун - Николай Переслегин
Очень мне важно, какое впечатление произвело на Тебя Алешина послание, и будешь-ли Ты отвечать на него. Надеюсь, что не сегодня, завтра получу от Тебя письмо.
Бог даст у Вас за последние сутки ничего не ухудшилось.
318
Константин Васильевич с утра очень взволнован: ждет приезда Лидии Сергеевны и Маруси. Через полчаса мы с ним едем встречать их на вокзал. Могу себе представить, как Лидия Сергеевна будет опечалена нашими делами. Она ведь едет с надеждой, что Ты уже в Москве.
И за что это судьба так немилостива к Тебе, моя бедная? Ну Бог даст все образуется. Целую.
Твой Николай.
Москва, 14-го сентября 1913 г.
Здравствуй Наталенька. Целую Твои рученьки и спешу ответить на Твое письмо, которое пришло сегодня утром.
Счастлив, что у Вас все, слава Богу, благополучно и страдаю, что Ты так бесповоротно решила остаться с отцом в Касатыни, а меня отправить одного в Петербург.
Ты спрашиваешь, «одобряю» ли я Твое письмо к Алексею. Нет, родная, — одобряю, совсем не то слово. По моему душевнее и окончательнее того, что Ты написала, вообще ничего нельзя было сказать.
Что Ты ни одним словом не защищаешь меня, только правильно. Уверен, что Алеша ясно почувствует, что Ты не оспариваешь его только потому, что спор с ним на тему моей низости для Тебя нравственно недопустим. Не обо всем же, в
319
самом деле, можно спорит. Алешино чувство впрочем будет конечно глуше этих моих, слишком заостренных слов. Ведь Твое письмо так мягко, так совсем без всякой принципиальности отклоняет всякий принципиально-нравственный разговор обо мне. По всему его тону совершенно ясно, что для Тебя злые Алешины выпады — только его боль и его страдание, но не его вина.
Замечательный Ты человек, Наташа, и самое в Тебе (до полной для меня непонятности) замечательное это то, что ни одно Твое чувство не оборачивается в Тебе на Тебя-же. Я вполне понимаю, что можно жить не для себя: — думаю, что мало кто для себя и живет. Но как можно жить не только не для себя, но и не вокруг себя, это для меня загадка. Если люди и не так эгоистичны, как они кажутся, то эгоцентричны они все же все. Кроме Тебя, по совести, не знаю ни одной женщины, которая, говоря с человеком, страдающим по ней, об его страдании, могла-бы не испытывать при этом ни малейшего удовлетворения. Почти во всех современных женщинах есть какой то в нравственном отношении весьма неблагополучный звук жадности и жестокости. Почти все они, как впрочем и современные мужчины, отравлены ядом Ницше и Стриндберга. Почти для всех них любовь не только притяжение в любви, но и отталкивание в борьбе. Уходя из под власти угасающего в них чувства, все они всегда сделают все, чтобы сохранить свою власть над теми, кого некогда любили. Какою ценою — им все равно;
320
хотя-бы и ценою сознательного возбуждения к себе ненависти.
В Твоем письме на все эти чувства нет ни намека. Я сказал-бы, что оно бескорыстно и благородно до оскорбительности. Ни одного волнующего, гневного слова; ни одного тревожного отзвука бывшей, ни одного скорбного звука мертвой любви. Одна только озабоченность — как бы помочь, вернуть человека себе самому, освободить от себя. Весь тон письма таков, словно оно написано не Тобою, не тою Наташей, которая некогда любила Алексея, а её старшей, недавно схоронившей Наташу сестрой; во всем такая ясность, прозрачность и успокоенность. Не думаю, чтобы после Твоего письма у Алексея осталась надежда на «завтрашний день», надежда на то, что Ты «разглядишь меня» и... вернешься к нему.
Твои, исполненные по отношению к нему большой любви и благодарной памяти, слова прежде всего все же звучат словами женщины, навеки обреченной своей судьбе: — себя потерявшей, себя нашедшей и над собою безвластной.
Я бесконечно счастлив Твоим письмом, родная. У меня словно камень с сердца. И в сердце новая надежда, что наконец то Алеша поймет, что все случившееся с ним не моя «махинация», а наша судьба. И как это мы с Тобою раньше не додумались, что надо было сразу-же не мне писать Алексею, а Тебе. Хотя... как знать, быть может это и не верно. Быть может год
321
тому назад один вид Твоего письма, самое начертание Твоего тихого, милого имени могли бы окончательно нарушить душевное равновесие Алеши. Сейчас этого, слава Богу, бояться уже не приходится. Твоя мысль, что Алешино письмо ко мне является лучшим доказательством того, что он оправляется и внутренне уже окреп, меня очень обрадовала. Сам я этого как-то не понял, не почувствовал, но после Твоего письма, мне сразу-же стало очевидным, что Ты глубоко права.
В тяжёлые минуты душевного упадка и отчаяния Алексей ведь всегда молчал, молчал днями, неделями..., ходя из угла в угол и куря папиросу за папиросой. Письмо же его — блестящая прокурорская речь, произнесенная, правда, в ответ на мое письмо, но внутренне найденная очевидно много раньше. В ней есть точность, блеск, ритм, т. е. творчество, т. е. жизнь.
Терапевтически было потому с моей стороны большой психологической ошибкой как Клементьевское письмо, так и все мое упорное стремление, не считаясь с нуждой Алешиной жизни, навязывать ему свою правду. Но конечно, как Ты и пишешь, моего большого вопроса: — не глубже ли (метафизически) Алешино непонимание меня, моего требования, чтобы он меня понял, — все эти психологические раздумья никак не касаются, ибо важно в последнем счете не то, — имеет ли Алексей право своим инстинктивным нежеланием понять меня пользоваться как выздорав-
322
ливающий диетой, а то — верно-ли, что вопрос истины есть вопрос крови, а не сознания. Осложняется для меня это Алешино утверждение еще и тем, что в сущности я сам всегда защищал почти все то, что Алексей сейчас утверждает, как будто вопреки своим прежним убеждениям. Не Алексей, а я всегда ставил «священное» выше «гуманного» — дар выше долга; не Алексей, а я всегда отстаивал не только право, но и долг кровью защищать свою любовь. В известном смысле его письмо большой шаг навстречу моему мироощущению и миросозерцанию. Было время, когда он уступал Тебя без боя, а я сознательно шел на все, и не ему, потому упрекать меня в том, что я боролся за Тебя одними силлогизмами. И все-же во мне все совершенно иначе, чем в нем. Я всегда считал своим долгом кровью и жизнью защищать правду. Алеша в своем письме свою кровь считает правдой, и потому дляправды в его мире места, в сущности, не остается.
Что теоретически вся правда на моей стороне — я верю и сейчас. В этом смысле Алешино письмо меня отнюдь не поколебало. Но жестокую мою самоуверенность оно как-то смягчило.
И сейчас во мне волнуется первое впечатление от Алешиного письма: — а что если и действительно нет никакой вне нас стоящей правды, за которую мы проливаем кровь, ради которой страдаем, во имя которой умираем, а есть толь-
323
ко правда нашего человеческого страдания, нашей бедной крови, нашей одинокой смерти? Не утешенный никакою верою в правду, Алеша должен страдать конечно гораздо глубже меня. В этой глубине его страданья мне и почувствовалась, когда схлынула первая обида, та его более глубокая правда, в которую я по настоящему, вероятно, не поверил, но о которой мне все-же захотелось сказать Тебе.
Я знаю, дорогая, что Ты вечное мое философствование («вертячку» постоянного опознавания всего в себе и вокруг себя) считаешь гораздо менее существенной и характерной для меня чертой, чем большинство моих друзей и я сам. Для Тебя я не столько человек, с чужими себе самому глазами, как я писал Тебе когда-то, сколько человек с чужими себе самому мыслями; скорее всего ребенок, играющий с огнем и не знающий с чем он играет. Тем более благодарен я Тебе, родная, что из моей приписки к Алешиному письму Ты сразу-же поняла, что на этот раз моя проблематика «нравственного долга греха» и «метафизического долга непонимания», совсем не философствование, а боль и «кровь». За Твои вдумчивые и нежные слова оправдания нежно и горячо целую Твои милые руки.
О всем этом мне очень нужно с Тобою поговорить. Хочется также и самому убедиться, (Ты прости это) как у вас обстоят дела: не очень ли выматывает Тебя уход за отцом. Потому я
324
предлагаю вот что: — в Петербург я поеду; соберу все силы, запрусь и буду сдавать экзамены. Но перед тем как запереть себя на ключ, я все-же денька на два слетаю к вам в Касатынь.
Выеду я после завтра утром в 10 ч. 30 м. Вышли маленький тарантас тройкой — чтобы поскорее доехать.
Три часа тому назад, садясь за письмо, я совсем не знал, что поеду. Если бы знал, может быть и не стал-бы так подробно о всем писать... Хотя... скорее всего, все таки, стал бы.
Ну, до свиданья, дорогая. Очень радуюсь, что увидимся. Лидия Сергеевна, Константин Васильевич и все обнимают и целуют Тебя. О моем плане я скажу только в последнюю минуту, а может быть уеду и не сказав. Боюсь как бы Лидия Сергеевна не вздумала проехать со мною. Ей страшно хочется посмотреть, как мы живем. Одной ей не вырваться: никогда, никуда одна не ездила, да и, как сама говорит, «тяжела на подъем». А со мной, думаю, съездила бы дня на два, на три с большим удовольствием.