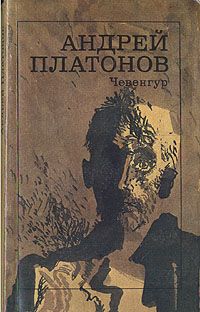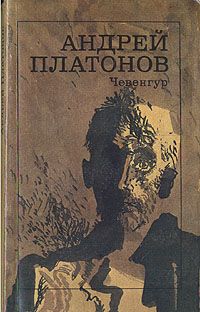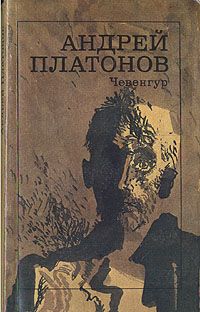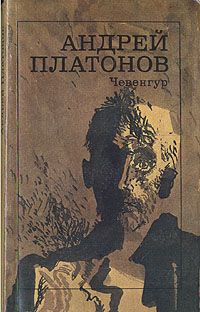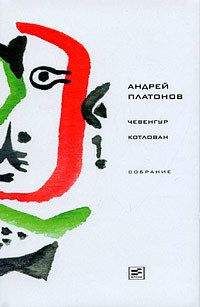Андрей Платонов - Чевенгур
— Ну, это вполне тебе хватит, — сообщил Копенкин. — Но ты скажи, куда заповедник твой девался, — неужели ты так ослаб, что его мужики свободно окулачили?
Пашинцев имел скучное настроение и еле говорил от скорби.
— Так там же, тебе говорят, широкую организацию совхоза назначили — чего ты меня шаришь по голому телу?
Копенкин еще раз оглядел голое тело Пашинцева.
— Тогда — одевайся: пойдем вместе Чевенгур обследовать — тут тоже фактов не хватает, а люди сон видят.
Но Пашинцев не мог быть спутником Копенкина — у него, кроме нагрудной кольчуги и забрала, не оказалось одежды.
— Иди так, — ободрил его Копенкин. — Что ты думаешь, люди живого тела не видали? Ишь ты, прелесть какая — то же самое и в гроб кладут!
— Нет, ты понимаешь, какой корень зла вышел? — разговаривая, перебирал Пашинцев свою металлическую одежду. — Из ревзаповедника меня отпустили исправным: хоть и опасным, но живым и одетым. А в селе — свои же мужики видят, идет какой-то прошлый человек и, главное, пораженный армией — так всю одежду с меня скостили, — бросили вслед два предмета, чтобы я на зорях в кольчуге грелся, а бомбу я при себе удержал.
— Аль на тебя целая армия наступала? — удивился Копенкин.
— Да а то как же? Сто человек конницы вышло против одного человека. Да в резерве три дюйма стояли наготове. И то я сутки не сдавался — пугал всю армию пустыми бомбами, да Грунька — девка там одна — доказала, сукушка.
— Ага, — поверил Копенкин. — Ну, пойдем, — давай мне твои железки в одну руку.
Пашинцев вылез из лодки и пошел по верным следам Копенкина в прибрежном песке.
— Ты не бойся, — успокаивал Копенкин голого товарища. — Ты же не сам обнажился — тебя полубелые обидели.
Пашинцев догадался, что он идет разутым-раздетым ради бедноты — коммунизма, и поэтому не стеснялся будущих встречных женщин.
Первой встретилась Клавдюша; наспех оглядев тело Пашинцева, она закрыла платком глаза, как татарка.
«Ужасно вялый мужчина, — подумала она, — весь в родинках, да чистый — шершавости в нем нет!» — и сказала вслух:
— Здесь, граждане, ведь не фронт — голым ходить не вполне прилично.
Копенкин попросил Пашинцева не обращать внимания на такую жабу — она буржуйка и вечно квохчет: то ей полушалок нужен, то Москва, а теперь от нее голому пролетарию прохода нет. Все же Пашинцев несколько засовестился и надел кольчугу и лобовое забрало, оставив большинство тела наружи.
— Так лучше, — определил он. — Подумают, что это форма новой политики!
— Чего ж тебе? — посмотрел Копенкин. — Ты теперь почти одет, только от железа тебе прохладно будет!
— Оно от тела нагреется, — кровь же льется внутри!
— И во мне льется! — почувствовал Копенкин.
Но железо кольчуги не холодило тела Пашинцева — в Чевенгуре было тепло. Люди сидели рядами в переулках, между сдвинутыми домами, и говорили друг с другом негромкие речи; и от людей тоже шло тепло и дыхание — не только от лучей солнца. Пашинцев и Копенкин проходили в сплошной духоте — теснота домов, солнечный жар и человеческий волнующий запах делали жизнь похожей на сон под ватным одеялом.
— Мне чего-то дремлется, а тебе? — спросил у Пашинцева Копенкин.
— А мне, в общем, так себе! — не разбирая себя, ответил Пашинцев.
Около кирпичного постоянного дома, где Копенкин останавливался в первый раз по прибытии, одиноко посиживал Пиюся и неопределенно глядел на все.
— Слушай, товарищ Пиюся! — обратился Копенкин. — Мне требуется пройти разведкой весь Чевенгур — проводи ты нас по маршруту!
— Можно, — не вставая с места, согласился Пиюся.
Пашинцев вошел в дом и поднял с полу старую солдатскую шинель — образца 14-го года. Эта шинель была на большой рост и сразу успокоила все тело Пашинцева.
— Ты теперь прямо как гражданин одет! — оценил Копенкин.
— Зато на себя меньше похож.
Три человека отправились вдаль — среди теплоты чевенгурских строений. Посреди дороги и на пустых местах печально стояли увядшие сады: их уже несколько раз пересаживали, таская на плечах, и они обессилели, несмотря на солнце и дожди.
— Вот тебе факт! — указал Копенкин на смолкнувшие деревья. — Себе, дьяволы, коммунизм устроили, а дереву не надо!
Редкие пришлые дети, которые иногда виднелись на прогалинах, были толстыми от воздуха, свободы и отсутствия ежедневного воспитания. Взрослые же люди жили в Чевенгуре неизвестно как: Копенкин не мог еще заметить в них новых чувств; издалека они казались ему отпускниками из империализма, но что у них внутри и что между собой — тому нет фактов; хорошее же настроение Копенкин считал лишь теплым испарением крови в теле человека, не означающим коммунизма.
Близ кладбища, где помещался ревком, находился длинный провал осевшей земли.
— Буржуи лежат, — сказал Пиюся. — Мы с Японцем из них добавочно души вышибали.
Копенкин с удовлетворением попробовал ногой осевшую почву могилы.
— Стало быть, ты должен был так! — сказал он.
— Этого нельзя миновать, — оправдал факт Пиюся, — нам жить необходимость пришла…
Пашинцева же обидело то, что могила лежала неутрамбованной
— надо бы ее затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад, тогда бы деревья высосали из земли остатки капитализма и обратили их, по-хозяйски, в зелень социализма; но Пиюся и сам считал трамбовку серьезной мерой, выполнить же ее не успел потому, что губерния срочно сместила его из председателей чрезвычайки; на это он почти не обиделся, так как знал, что для службы в советских учреждениях нужны образованные люди, не похожие на него, и буржуазия там приносила пользу. Благодаря такому сознанию Пиюся, после своего устранения из должности революционера, раз навсегда признал революцию умнее себя — и затих в массе чевенгурского коллектива. Больше всего Пиюся пугался канцелярий и написанных бумаг — при виде их он сразу, бывало, смолкал и, мрачно ослабевая всем телом, чувствовал могущество черной магии мысли и письменности. Во времена Пиюси сама чевенгурская чрезвычайка помещалась на городской поляне; вместо записей расправ с капиталом Пиюся ввел их всенародную очевидность и предлагал убивать пойманных помещиков самим батракам, что и совершалось. Нынче же, когда в Чевенгуре имелось окончательное развитие коммунизма, чрезвычайка, по личному заключению Чепурного, закрыта навсегда и на ее поляну передвинуты дома.
Копенкин стоял в размышлении над общей могилой буржуазии — без деревьев, без холма и без памяти. Ему смутно казалось, что это сделано для того, чтобы дальняя могила Розы Люксембург имела дерево, холм и вечную память. Одно не совсем нравилось Копенкину — могила буржуазии не прочно утрамбована.
— Ты говоришь: душу добавочно из буржуев вышибали? — усомнился Копенкин. — А тебя за то аннулировали, — стало быть, били буржуев не сплошь и не насмерть! Даже землю трамбовкой не забили!
Здесь Копенкин резко ошибался. Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно, и даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна душа.
У Чепурного, после краткой жизни в Чевенгуре, начало болеть сердце от присутствия в городе густой мелкой буржуазии. И тут он начал мучиться всем телом — для коммунизма почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена имуществом и имущими людьми; а надо было немедленно определить коммунизм на живую базу, но жилье спокон века занято странными людьми, от которых пахло воском. Чепурный нарочно уходил в поле и глядел на свежие открытые места — не начать ли коммунизм именно там? Но отказывался, так как тогда должны пропасть для пролетариата и деревенской бедноты чевенгурские здания и утварь, созданные угнетенными руками. Он знал и видел, насколько чевенгурскую буржуазию томит ожидание второго пришествия, и лично ничего не имел против него. Пробыв председателем ревкома месяца два, Чепурный замучился — буржуазия живет, коммунизма нет, а в будущее ведет, как говорилось в губернских циркулярах, ряд последовательно-наступательных переходных ступеней, в которых Чепурный чувством подозревал обман масс.
Сначала он назначил комиссию, и та комиссия говорила Чепурному про необходимость второго пришествия, но Чепурный тогда промолчал, а втайне решил оставить буржуазную мелочь, чтоб всемирной революции было чем заняться. А потом Чепурный захотел отмучиться и вызвал председателя чрезвычайки Пиюсю.
— Очисть мне город от гнетущего элемента! — приказал Чепурный.
— Можно, — послушался Пиюся. Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился Чепурный.
— Ты понимаешь — это будет добрей! — уговаривал он Пиюсю. — Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему ж буржуазия? Это прямо некрасиво!