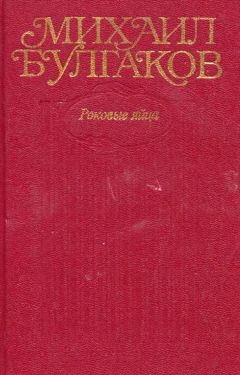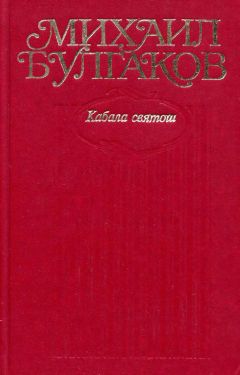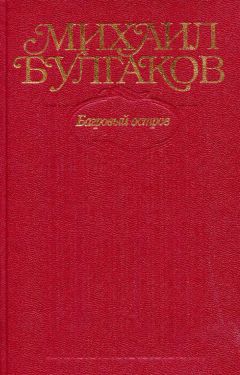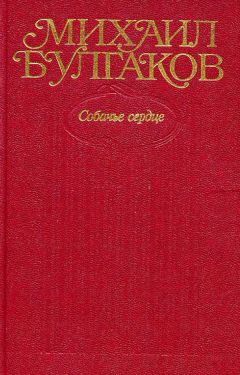Михаил Булгаков - Том 4. Белая гвардия, Дни Турбиных
Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и идти одному и пошел надевать штатское платье.
Нож совсем пропал, но жар пошел гуще — поддавал тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером.
— А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся? Серый? — вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на Елену внимательно. — Это неприятно… Вообще, в сущности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать, да посадить, в тепле и опомнилась бы.
— Что ты, Алеша? — испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от лица Турбина. — Птица? Какая птица?
Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат… Но это было лишнее — птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую.
— Неприятно… ох, неприятно, — беспокойно говорил Турбин, глядя в угол, — напрасно я застрелил его… Ты слушай… — Он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла… — Лучший способ пригласить и объяснить, чего, мол, мечешься, как дурак?.. Я, конечно, беру на себя вину… Все пропало и глупо…
— Да, да, — тяжко молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно сказал:
— Уберите тогда!..
— Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее, она молчит, — тревожно зашептал Елене Лариосик.
Елена махнула рукой: «Нет, нет, не то…» Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились, он глядел на циферблат: часы показывали около десяти. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую.
— Что, как Алексей Васильевич? — спросила она.
— Бредит, — с глубоким вздохом ответил Николка.
— Ах ты, Боже мой, — зашептала Анюта, — чего же это доктор не едет?
Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей:
— Воля твоя, а я отправляюсь за ним. Если нет его, надо звать другого. Десять часов. На улице совершенно спокойно.
— Подождем до половины одиннадцатого, — качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом, — другого звать неудобно. Я знаю, этот придет.
Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Черт знает что! Совершенно немыслимо будет жить. Она заняла все от стены до стены, так что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить, нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе, правое колесо протискиваться, да еще с вещами, а вещей навешано на левой руке Бог знает сколько. Тянут руку к земле, бечевой режут подмышку. Мортиру убрать невозможно, вся квартира стала мортирной, согласно распоряжению, и бестолковый полковник Малышев, и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие, сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря проклятой, тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто… бррынь… и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холодную, витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлей.
— Фу… гадость эту… перестань, — бормотал Турбин.
Николка и пугался и брови поднимал, но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегчения. Еленины руки, обычно теплые и ловкие, теперь, как грабли, расхаживали длинно, дурацки и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейхгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Да еще садилась… что с ней?.. на конец этой палки, и та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться… А попробуйте жить, если круглая палка врезывается в тело! Нет, нет, нет, они несносны! И как мог громче, но вышло тихо, Турбин позвал.
— Юлия!
Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете сороковых годов, не вняла зову больного человека. И совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне, наравне с самими Турбиными, если бы не приехал толстый, в золотых очках — настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спаленке прибавился еще один свет — свет стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном шандале. Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный Лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты — рождественского снега. Турбину толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные, ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла, и со стены исчез угловатый, черный, как уголь, Ларион, Лариосик Суржанский из Житомира, а лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым, быть может, потому, что стрелка благодаря надежде на искусство толстого золотого разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без двадцати пять пошло времечко, а часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему — чистым, солидным баритоном били — тонк! И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV, били на башне — бом!.. Полночь… слушай… полночь… слушай… Били предостерегающе, и чьи-то алебарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует.
Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться. Она и появилась, ее нога в черном чулке, край черного отороченного мехом ботика мелькнул на легкой кирпичной лесенке, и торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин.
В полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, и с груди Саардамского Плотника исчезли слова:
Да здравствует Россия…
Да здравствует самодержавие!
Бей Петлюру!
Затем при горячем участии Лариосика были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший шесть где-то расстрелял.
— Здорово… — прошептал Николка.
Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще, а джентльмен, подписавший векселей на семьдесят пять тысяч и посылающий телеграммы в шестьдесят три слова, в частности… Машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и Най-Турсов кольт и Алешин браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от двух часов тридцати минут ночи до шести часов пятнадцати минут утра зимой и от двенадцати часов ночи до четырех утра летом. Все же работа задержалась благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством десятизарядного пистолета системы Кольт, вложил в ручку обойму не тем концом, и, чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие: коробка со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку.