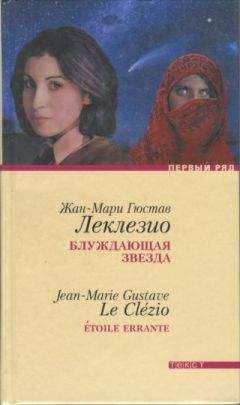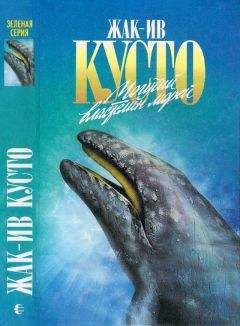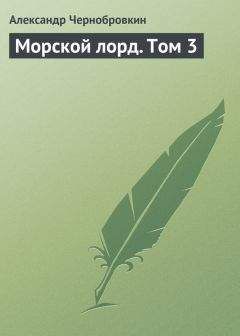Жан- Мари Гюстав Леклезио - Золотоискатель
Все это так далеко сейчас, не верится, что это и правда было с нами. Усталость, голод, болезни затуманили нашу память, стерли воспоминания. Почему мы здесь сейчас? Зачем зарылись в эти траншеи, с черными от дыма лицами, в лохмотьях, заскорузлые от грязи, месяцами вдыхая эту вонь — запах нужника и смерти?
Мы привыкли к смерти, она стала нам безразлична. Мало-помалу она выкосила всех, с кем я познакомился в первые дни, когда мы катили в бронированных вагонах к станции Бов. Гигантская толпа, которую временами я видел сквозь щели в забитых досками окнах, шагала под дождем в сторону долины Изера, рассыпалась вдоль дорог, разделялась, соединялась, распадалась вновь. Пятая Дивизия Морланда, Двадцать седьмая Сноу, Двадцать восьмая Бальфина, Первая канадская дивизия Олдерсона, ветераны октябрьских операций, к которым мы должны были присоединиться вместе с Территориальными и Экспедиционными войсками. Мы думали тогда о смерти — еще думали, но о смерти славной, говорили о ней между собой вечерами на привалах: как тот офицер шотландцев, что поднял своих солдат в атаку, выскочив с одной саблей в руке против германских пулеметов. На Коминском канале люди с нетерпением ждали приказа к наступлению, в упоении слушая далекую канонаду, не прекращающуюся ни днем, ни ночью, словно подземные громовые раскаты. Когда же наконец приказ поступил — вместе с сообщением о том, что части генерала Дугласа Хейга выступили в направлении Брюгге, — всех охватила буйная мальчишеская радость. Солдаты кричали «ура!», бросали в воздух фуражки, а мне вспоминались добровольцы с Родригеса, ожидавшие своей очереди у здания телеграфа. На берегах реки Лис к нам присоединилась французская кавалерия. В зимнем сумеречном свете их синие мундиры выглядели ненастоящими, напоминая брачное оперение диковинных птиц.
Тогда-то и начался наш долгий марш-бросок на северо-запад, вверх по каналу Ипр-Комин, к лесу Хоох, туда, откуда доносились громовые раскаты. Каждый день навстречу нам попадались войска. Это были французы и бельгийцы, выжившие в побоище при Диксмюде, они возвращались из Рамскапелле, где бельгийцы устроили настоящий потоп, открыв шлюзы на реке. Окровавленные, в лохмотьях, они рассказывали ужасающие истории: бесконечные атаки исступленных немцев, с бешеными криками сметавших всё на своем пути; сражения врукопашную по колено в грязи; штыковые атаки; трупы, плывущие по воде, застрявшие в камышах, повисшие на колючей проволоке.
Я все еще слышу эти рассказы. Тогда огненное кольцо сомкнулось вокруг нас: на севере — Диксмюде, Сен-Жюльен и лес Хоутхюлст, на юге — берега Лиса, Менин, Вервик. Мы идем по изрытой снарядами, опустошенной земле, с торчащими там и тут обугленными стволами деревьев. Мы двигаемся медленно, словно ползком: заметив утром на другом конце поля овраг или разрушенную ферму, мы знаем, что доберемся до них не раньше вечера. Тяжелая земля налипает на подошвы, мешает идти, и мы падаем лицом в грязь. Некоторые так и остаются лежать.
Мы ползаем по окопам, что сами вырыли до рассвета, прислушиваясь к близкому теперь грохоту пушек и треску пулеметов. Далеко, за холмами, где-то рядом с Ипром, сражаются французы. Но мы не видим людей — лишь черные следы, которыми они пачкают небо.
Вечерами Барнеу из Труа-Ривьера рассказывает о женщинах. Он описывает их тела, лица, волосы. Он говорит все это странным голосом, хриплым и печальным, будто все эти женщины умерли. Сначала мы смеялись, потому что это было нелепо — столько голых женщин тут, с нами, на войне. Война не женское дело, совсем наоборот, она — только для мужчин. Но потом нам стало страшно, страшно до дрожи, от всех этих женских тел в грязи, среди запаха мочи и тухлятины, в огненном кольце, дни и ночи горящем вокруг нас. Мы стали говорить ему тогда — по-английски, по-французски: «Хватит, заткнись, shut up! Прекрати трепаться!» Как-то вечером, когда он всё продолжал нести свой бред, один англичанин, здоровенный детина, врезал ему кулаком по морде, со зверской силой, может, и убил бы его, если бы не офицер, младший лейтенант, который вовремя появился с табельным револьвером в руке. А на следующее утро Барнеу исчез. Говорят, его перевели в Тринадцатую пехотную бригаду и он погиб в боях под Сен-Жюльеном.
Думаю, мы уже тогда были равнодушны к смерти. Каждый день до нас доносились ее звуки: глухие разрывы снарядов, пулеметные очереди и — после этого — странный шум. Голоса, топот бегущих по грязи ног, приказы офицеров и прочая суматоха, предшествующая контратаке.
Двадцать третье апреля: в связи с первым выбросом газа над французскими позициями мы идем в контратаку под командованием полковника Джедса вместе с Тринадцатой бригадой и батальонами Третьей канадской бригады. Весь день мы двигаемся на северо-восток, к лесу Хоутхюлст. Снаряды роют свои воронки все ближе и ближе, и нам приходится устраиваться на ночлег прямо здесь, среди равнины. Мы наспех выкапываем десятифутовые ямы и забиваемся в них по шестеро-семеро, как крабы. Скрючившись, надвинув железную каску на самый нос, мы ждем следующего дня, не смея шевельнуться. Позади нас грохочут английские пушки, отвечая на огонь неприятеля. На рассвете, когда мы еще спали, прижавшись друг к другу, пронзительный свист снаряда поднял нас на ноги. Раздался мощный взрыв, и, несмотря на тесноту окопа, мы все повалились на землю. Я лежу придавленный телами своих товарищей и чувствую, как по лицу у меня течет горячая влага — кровь. Я ранен? Сейчас я умру? Я расталкиваю навалившиеся на меня тела и вижу, что убиты мои товарищи, это их кровь течет по мне.
Я ползу к другим человечьим норам, зову оставшихся в живых. Вместе мы оттаскиваем раненых в тыл, ищем, где бы укрыться. Но где? Половина нашей роты убита. Младшему лейтенанту, тому самому, который арестовал Барнеу, снарядом оторвало голову. Мы отступаем на линию обороны. В пять вечера вместе с англичанами из частей генерала Сноу мы снова поднимаемся в атаку, движемся через проклятое поле короткими перебежками, метров по десять. В пять тридцать, когда сумеречный свет начинает гаснуть, в пятидесяти метрах от нас в небо вдруг поднимается огромное желто-зеленое облако. Легкий ветерок медленно разгоняет его, перемещает к югу. Ближе к нам тут и там раздаются взрывы, оставляя после себя новые смертоносные облака.
У меня останавливается сердце, я каменею от ужаса! Кто-то кричит: «Газы! Назад!» Мы бежим к траншеям, наспех сооружаем маски — из носовых платков, из обрывков шинели, из каких-то тряпок, — выливаем на них скудные запасы воды. А облако все приближается; легкое, зловещее, оно отливает медью в сумеречном свете. Едкий запах уже проникает в наши легкие, вызывая кашель. Люди со страхом и ненавистью оглядываются назад. Наконец поступает приказ отступать к Сен-Жюльену, но многие уже и так бегут, пригнувшись к земле. Я думаю о раненых, оставшихся в ямах, над которыми сейчас проплывает смерть. Я тоже бегу через изрытое снарядами поле, через обуглившиеся рощи, прижав к лицу смоченный в грязной воде платок.
Сколько народу погибло? Сколько еще в состоянии сражаться? После того, что мы видели, после этого медленно надвигавшегося на нас смертоносного облака, золотисто-желтого, как сумерки, мы безвылазно сидим в своих норах, днем и ночью неустанно наблюдая за небом. Машинально, а может быть, в надежде снова увидеть тех, чьи имена остались свободными и никого больше не обозначают, мы пересчитываем друг друга: «Симон, Ланфан, Гарадек, Шаффер… Еще Адриен и этот рыжий малый, Гордон, да, его звали Гордон… А Поммье, Антуан, фамилию я забыл, он еще из Жолиетта, Леон Берр, потом Ремон, Дюбуа, Сантейль, Рейнер…» Но разве это реальные имена? Разве они существовали вообще? Когда мы впервые прибыли сюда, из такого далека, то по-другому представляли себе смерть: смерть при свете дня, в лучах славы, с кровавой звездой на груди. Но смерть коварна и лжива, она бьет исподтишка, уносит людей ночью, во сне, незаметно для окружающих. Она топит их в болотах, в грязных лужах на дне оврагов, душит под землей, замораживает тех, кто лежит в лазаретах, в дырявых палатках, тех, у кого бледные лица и впалая грудь, тех, кого гложет дизентерия, пневмония, тиф. Умершие исчезают, и мы лишь позже замечаем, что их нет. Где они? Может, им посчастливилось и их отправили в тыл, может, они лишились глаза, ноги и им больше не придется воевать? Но что-то подсказывает нам, что-то в самом их отсутствии, в безмолвии, окружающем их имена: они умерли.
Итак, будто какой-то чудовищный зверь являлся ночью, во время нашего неглубокого сна, хватал некоторых из нас и тащил к себе в логово, чтобы сожрать их там. Это больно, словно ожог, оставшийся навечно внутри нас, это не проходит, не забывается, и ничего тут не поделаешь. После газовой атаки двадцать четвертого апреля мы не двинулись больше с места. Так и остались сидеть в окопах, тех самых, которые начали копать полгода назад, когда только прибыли сюда. Тогда перед нами расстилался еще девственный пейзаж: холмы с пожухлыми зимними деревьями, фермы среди полей, пастбища в пятнах воды, изгороди, ряды яблонь, и вдали — очертания города Ипра с выступающей из тумана каменной колокольней. Теперь же сквозь прицел пулемета я вижу лишь искореженную землю да обгорелые деревья. Сотни вырытых снарядами воронок уничтожили леса и селенья, а колокольня Ипра повисла, как обломанная ветка. На смену адскому грохоту обстрелов, не смолкавшему в течение первых недель, пришло безмолвие и безлюдье. Огненный круг уменьшился в размерах, как пожар, опустошивший всё окрест, затухает от недостатка горючих материалов. Лишь изредка слышится рокот батарей, да столпы дыма взмывают в небо в тех местах, куда попал снаряд союзников.