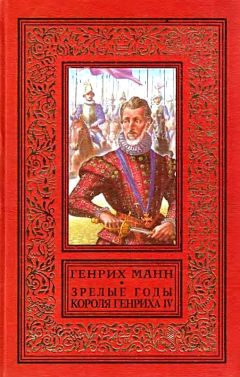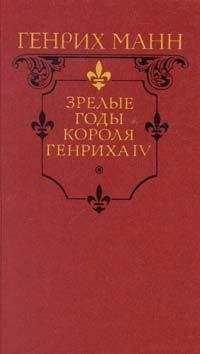Генрих Манн - Верноподданный
— Господин защитник, последний раз предупреждаю: не касайтесь в ходе прений монаршей особы!
В зале произошло движение. Кто-то собирался похлопать Буку, как только тот открыл рот, чтобы продолжать, но Шпрециус вовремя долбанул. То была одна из эксцентричных девиц.
— Господин председатель первый назвал монаршую особу. Что ж, поскольку она названа, я позволю себе, не вводя суд в смущение, сказать, что кайзер улавливает и выражает существующие в данный момент течения в стране с такой полнотой, которая делает его особу достойной преклонения. Я хотел бы назвать кайзера, — надеюсь, господин председатель не станет прерывать меня, — великим артистом. Что можно еще прибавить? Более великого никто из нас не знает… Именно поэтому не следовало бы допускать, чтобы любой дюжинный человечишка из числа наших современников копировал его. В блеске трона могут заиграть все грани индивидуальности монарха, он может произносить речи, зная, что мы ничего не ждем от него, кроме речей, может сверкать очами, ослеплять, вызывать ненависть у воображаемых мятежников и срывать овации у публики партера, которая за этими речами не забывает своих обывательских интересов…
Дидерих задрожал, да и все сидели, разинув рты и не отрывая глаз от Бука, словно он двигался по канату, натянутому между двумя башнями. Сорвется? Шпрециус уже нацелил свой клюв. Однако ни тени иронии не мелькнуло в лице защитника, в нем сквозило что-то близкое к ожесточенной восторженности. Вдруг уголки его рта опустились, словно все вокруг потускнело.
— Но нетцигский бумажный фабрикант?.. — сказал он.
Нет, он не сорвался, он опять стоял обеими ногами на земле! Теперь все повернулись к Дидериху, многие даже усмехались. И Эмми с Магдой улыбнулись. Бук достиг желанного эффекта, и Дидерих, на свою беду, только теперь сообразил, что их вчерашний разговор на улице был для Бука генеральной репетицией выступления в суде, От откровенной издевки оратора он весь сжался.
— Бумажные фабриканты пытаются нынче присваивать себе ту роль, для которой они не сфабрикованы. Так освищем же их! Они бездарны! Эстетический уровень нашей общественной жизни, поднятый на высоту блестящим выступлением Вильгельма Второго, может только проиграть, когда на сцену выходят такие исполнители, как свидетель Геслинг… А с эстетическим началом, уважаемые господа судьи, усиливается или падает моральное начало. Фальшивые идеалы влекут за собой падение нравов, за политическим обманом следует обман в гражданской жизни. — Голос Бука звучал сурово. Теперь только он поднялся до истинного пафоса. — Ибо, уважаемые господа судьи, я не ограничиваю себя механистической доктриной, столь милой сердцу партии так называемого бунта[95]. Пример великого человека больше изменяет мир, чем все экономические законы, вместе взятые. Но горе, если этот пример неправильно понят! Тогда может случиться, что в стране получит распространение новый тип человека, который видит в жестокости и угнетении не прискорбный путь к человеческим условиям жизни, а самый смысл жизни. Слабый и податливый от природы, он надевает на себя личину железной твердости, ибо в его представлении ею обладал Бисмарк. И без всяких на то данных, следуя примеру высочайшей особы, он ведет себя шумно и несолидно. Несомненно, он воспользуется победой своих тщеславных устремлений для деловых целей. Пусть разыгранная им комедия благонамеренности сначала приведет в тюрьму оскорбителя величества, а там видно будет, как из этого извлечь выгоду. Уважаемые господа судьи! — Бук раскинул руки, словно хотел весь мир обхватить своей мантией, лицо его выражало сосредоточенную волю вождя. И он бросил в бой все, что еще оставалось в резерве: — Вы суверенны, и суверенитет ваш — наивысший и наисильнейший. В ваших руках судьба человека. Вы можете вернуть его к жизни или морально убить — чего не властен сделать ни один монарх. Но эти два типа людей, — одобряемых или отвергаемых вами, — в совокупности своей образуют поколение. Таким образом, от вас зависит наше будущее. Вы несете безмерную ответственность за то, будут ли люди, подобные обвиняемому, наполнять тюрьмы, а существа, подобные Геслингу, составлять господствующее большинство нации. Выбирайте между ними! Выбирайте между карьеризмом и мужественным трудом, между фиглярством и правдой! Между теми, кто требует жертв во имя своей карьеры, и теми, кто приносит жертвы, чтобы людям лучше жилось! Обвиняемый совершил шаг, на какой, надо полагать, способны лишь немногие. Он отказался от своих прав хозяина, он дал такие же права своим подчиненным, и они познали чувство удовлетворения и радость надежды. Так неужели тот, кто уважает в ближнем самого себя, способен с неуважением говорить об особе кайзера?
Все вздохнули. Новыми глазами смотрел зал на обвиняемого, сжимавшего рукою лоб, и на его жену, устремившую неподвижный взгляд в пространство. Многие всхлипывали. Даже председатель сидел с оторопелым видом. Он ни разу не моргнул, глаза его округлились, он слушал Бука как зачарованный. Старичок Кюлеман почтительно кивал, а у Ядассона нервно подергивалось лицо.
Но Бук злоупотребил своим успехом, он охмелел.
— Пробуждение гражданина! — воскликнул он. — Истинно националистический образ мыслей! Скромное деяние какого-нибудь Лауэра реальнее содействует его воспитанию, чем сотни трескучих монологов даже венценосного артиста!
Шпрециус тотчас же заморгал: видно было, что он очнулся, понял, что происходит, и дает себе слово вторично в сети не угодить. Ядассон ухмылялся; большинство аудитории почувствовало, что защитник проиграл. Под шепот и беспокойное движение в зале председатель дал ему закончить хвалебную характеристику обвиняемого.
Когда Бук сел, актеры попытались аплодировать, но Шпрециус даже клювом не повел в их сторону, он только покосился на них скучающим взглядом и спросил у господина прокурора, не пожелает ли тот коротко ответить? Ядассон, скорчив пренебрежительную гримасу, отказался, и суд быстро удалился на совещание.
— Приговора ждать недолго, — вздергивая плечами, сказал Дидерих, еще не совсем придя в себя от речи Бука.
— Слава богу! — сказала теща бургомистра. — Даже не верится, что пять минут назад они чувствовали себя победителями. — Она показала на Лауэра, обтиравшего платком лицо, и на Бука, которого поздравляли актеры.
Но вот судьи вернулись, и Шпрециус объявил: шесть месяцев тюремного заключения. Такое решение всем показалось правильным и понятным. Кроме того, обвиняемый лишался всех своих общественных должностей.
В обоснование приговора председатель указал, что наличие намерения оскорбить не является обязательным для состава преступления. Поэтому вопрос, имела ли место провокация, не относится к делу. Напротив, то, что обвиняемый разрешил себе высказать недозволенное суждение в присутствии националистически мыслящих свидетелей, есть обстоятельство отягчающее. Утверждение обвиняемого, что он не имел в виду кайзера, суд признал несостоятельным.
— Свидетели, при их образе мыслей, зная антимонархические настроения обвиняемого, не могли не счесть его слова оскорбительными для кайзера. Уловка обвиняемого, подчеркнувшего, что он еще из ума не выжил и воздержался от оскорбления величества, означает, что его волнует не самое оскорбление, а лишь страх уголовной ответственности.
Последний довод всем показался убедительным, соображения Лауэра нетрудно понять, но ведь какая хитрость! Лауэра тотчас же взяли под стражу; публика насладилась еще одним сильным ощущением и, обмениваясь далеко не лестными замечаниями по адресу осужденного, начала расходиться. Разумеется, на Лауэре надо поставить крест: что, в самом деле, станется с фабрикой за полгода его отсидки! По приговору, он уже не городской гласный. Впредь никому от него ни пользы, ни вреда. Поделом буковской семейке, которая так задирала нос! Поискали глазами жену заключенного, но она исчезла.
— Даже руки на прощанье ему не подала! Ну и нравы!
Однако в последующие дни произошли события, которые послужили пищей для пересудов куда похлеще! Юдифь Лауэр стремительно уложила чемоданы и уехала в южные края. Уехать на юг, когда законный муж сидит в тюремной камере, с часовым под зарешеченным оконцем! К тому же какое необычайное совпадение! Член суда Фрицше неожиданно взял отпуск! Доктор Гейтейфель получил от него открытку из Генуи и всем ее показывал; быть может, для того, чтобы скорее забыли о его собственном поведении. Едва ли была еще необходимость выспрашивать лауэровских слуг или осиротевших детей: и без того все ясно!
Скандал был так велик, что «Нетцигский листок» счел необходимым выступить по этому поводу; адресуясь к «верхним десяти тысячам», он предупреждал, что своей распущенностью избранное общество содействует росту бунтарских настроений. Во второй статье Нотгрошен показывал, как не правы те, кто расхваливает реформы, введенные Лауэром у себя на предприятии. Что, в сущности, получают рабочие от участия в прибылях? В среднем, по расчетам самого Лауэра, даже не полных восемьдесят марок в год. Такую сумму можно преподнести и в форме рождественского подарка! Но тогда, конечно, это не было бы демонстрацией против существующего общественного строя. И антимонархические убеждения фабриканта, установленные судом, не были бы так опасны. А ежели господин Лауэр надеялся на признательность рабочих, то теперь он может убедиться в противном, — в том случае, конечно, — добавлял Нотгрошен, — если ему в тюрьме разрешают читать социал-демократическую газету. Последняя бросает Лауэру упрек в том, что своим легкомысленным оскорблением величества он поставил под угрозу существование нескольких сот рабочих семейств.