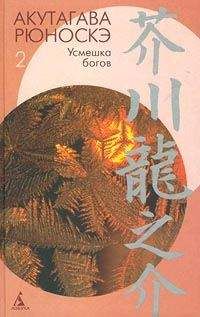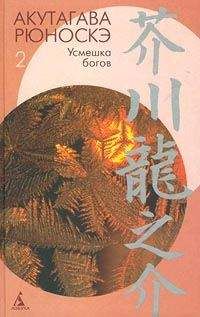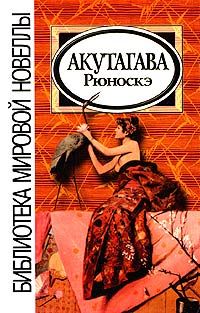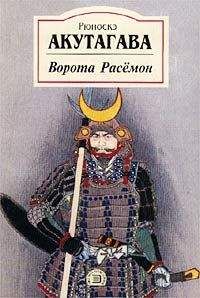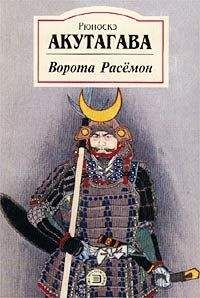Акутагава Рюноскэ - Новеллы
Стоя в коридоре, мы любовались пожелтевшей листвой росших во дворе деревьев. Подошел Тоёда Минору{161}. «Покажи на минутку твой конспект», — попросил он. Я дал ему конспект, но оказалось, что того места, которое его интересовало, в конспекте не было: я его как раз проспал. Я, естественно, почувствовал себя неловко. «Ну, ладно», — сказал Тоёда и неторопливо двинулся дальше. Слово «неторопливо» употреблено здесь мною не случайно. Ведь ты и правда всегда ходил неторопливо… Где ты теперь? Чем занимаешься? Точно не знаю. Хотел бы только сказать, что среди поклонников Лоуренса или, если сказать по-другому, среди студентов, которым симпатизировал Лоуренс, Тоёда был единственным, к которому, если не все мы, то, по крайней мере, я питал в некоторой степени дружеские чувства. И даже теперь, когда я пишу эти строки, я вспоминаю твою неторопливую походку, и мне хочется снова встретиться с тобой в коридоре университета и обменяться обычными приветствиями.
Тем временем снова прозвенел звонок, и мы с Нарусэ спустились на первый этаж, в аудиторию. Следующей была лекция по филологии профессора Фудзиока Кацудзи{162}. Остальные студенты пришли заранее и заняли места поближе к кафедре. А такие лентяи, как мы, всегда приходили последними и садились за стол в самом углу. В то утро мы, как всегда, до самого звонка проболтались в коридоре второго этажа, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Лекции профессора Фудзиока по филологии имели право на существование уже хотя бы потому, что профессор обладал прекрасно поставленным звучным голосом и пересыпал свои лекции оригинальными шутками. Правда, я, как человек, от рождения лишенный филологического мышления, сказал бы несколько по-иному: только поэтому они и имели право на существование. Вот почему и сегодня то делая записи, то прекращая их, я с интересом слушал изобиловавшую интересными подробностями лекцию о Максе Мюллере{163}.
Передо мной сидел студент с длинными волосами. Иногда он откидывал голову назад, и его волосы шуршали по моим записям, словно подметая их. Я даже не знал имени этого человека, и вплоть до сегодняшнего дня у меня все не было случая спросить, с какой целью он отрастил себе такую шевелюру. Во всяком случае, именно на этой лекции по филологии я сделал открытие, что его прическа, может быть, и совпадала с его личными эстетическими потребностями, но вступала в противоречие с практическими потребностями других. Но поскольку, к счастью, моя практическая потребность в слушании этой лекции была не столь настоятельна, я не записывал те места лекции, во время которых мне мешали его волосы. В промежутках, когда мне они не мешали, я вместо записей рисовал картинки. К несчастью, прозвенел звонок, а я не успел и наполовину зарисовать профиль сидевшего напротив потрясающего франта. Этот звонок, извещавший об окончании лекции, одновременно означал, что наступил полдень.
Вместе с Нарусэ мы отправились в харчевню «Иппакуся», что напротив университета. Там на втором этаже мы купили содовой воды и заказали обед за двадцать сэнов. За едой обсуждали различные проблемы. Мы с Нарусэ были друзьями. Причем наша дружба не омрачалась особыми расхождениями. В то время у нас было много общего и в идейном плане. Случайно мы оба почти одновременно прочитали «Жана Кристофа», и оба были покорены этим романом. За обедом мы всегда без устали беседовали, перескакивая с одной темы на другую. В тот день к нам подсел официант Тани и завел разговор о бирже. «На худой конец, надо всегда быть готовым к этому», — решительно заключил Тани, выворачивая руки назад, будто его ведут полицейские. «Дурак», — заключил Нарусэ и перестал его слушать. Меня же все, что рассказывал Тани, очень интересовало, так как я в то время писал рассказ «Кошелек»{164}. Я проговорил с Тани до конца обеда и в один присест узнал больше десятка слов из биржевого жаргона.
После обеда лекций в университете не было, и мы, выйдя из харчевни, отправились в гости к Кумэ, который поблизости снимал комнату в Мияура. Будучи еще большим лодырем, чем мы, Кумэ вообще не посещал лекций. Он писал рассказы и пьесы. Когда мы пришли, он читал не то «Братьев Карамазовых», не то что-то еще, придвинув к столу жаровню для обогревания ног.
— Садитесь сюда, — пригласил Кумэ.
Мы сели, протянув ноги к жаровне. В нос ударил исходивший от пятен на подушках запах растительного масла, а также запах раскаленных углей. Кумэ сообщил нам, что он пишет рассказ об отце, покончившем жизнь самоубийством, когда Кумэ еще был ребенком. Это был вроде бы его дебют, и поэтому, по словам Кумэ, он измучился вконец, не зная, как к этому подступиться. Тем не менее Кумэ, как всегда, прекрасно выглядел, и на его лице нельзя было обнаружить какие-либо следы испытываемых им мук творчества. Потом он у меня спросил:
— Как дела?
— Написал наконец половину «Носа»{165}, — ответил я.
Нарусэ сказал, что он приступил к очерку о своей поездке в Японские Альпы{166} летом этого года. Попивая приготовленный Кумэ кофе, мы долго разговаривали о различных проблемах творчества.
Кумэ начал подвизаться на литературном поприще значительно раньше нас. По сравнению с нами он, несомненно, обладал и большим писательским мастерством. Меня в особенности поражало его уменье легко и в короткий срок создавать трехактные и одноактные пьесы. Среди нас только один Кумэ с достаточной уверенностью занимал или собирался занять в литературных кругах соответствующее положение. Надо сказать, что он способствовал пробуждению уверенности и у нас, непрестанно страдавших оттого, что высота идеала не соответствовала нашим способностям.
В самом деле, что касается лично меня, то если бы не дружба с Кумэ, если бы он искусственно меня не подбадривал и не воодушевлял, я бы, возможно, ничего не написал и на всю жизнь удовольствовался лишь ролью рядового читателя. Вот почему, когда у нас возникал творческий разговор о литературе, им, как правило, дирижировал Кумэ. В тот день он тоже вел за собой наш оркестр. Наша беседа то оживлялась, то замирала. Помню, по какой-то причине мы часто упоминали имя Таяма Катая{167}.
Справедливости ради следует сказать, что личность Таяма и его энергия сыграли не последнюю роль в серьезном влиянии, которое оказало на литературную жизнь Японии натуралистическое течение. И в этом смысле Таяма, — сколь бы скучными мы ни считали его «Жену» и «Школьного учителя» и сколь бы примитивной ни была его теория плоского отображения, — если не заслуживал уважения со стороны нашего, более молодого поколения, то, по крайней мере, привлекал к себе наш интерес. К сожалению, в то время мы были еще неспособны в должной мере оценить его бьющую через край творческую индивидуальность. Именно поэтому мы ничего не могли открыть в его произведениях, кроме лунного света и сексуальных картинок. В то же время его заметки и критические статьи, в которых Таяма рассказывал в стиле Гюисманса{168} о любопытных подробностях из жизни новообращенного, только вызывали у нас холодную усмешку, ибо нам приходило в голову комичное сопоставление Таяма с Дюрталем{169}. Но это не означало, что мы видели в нем ловкача. Правда, мы не считали его и солидным романистом или мыслителем. Прежде всего мы признавали в нем талантливого автора путевых заметок. В то время я дал ему псевдоним Sentimental landscape-painter[9]. В самом деле, в перерывах между романами и критическими заметками Таяма усердно писал путевые заметки. Мало того, выражаясь несколько гиперболически, можно сказать, что и большинство его романов представляли собой путевые заметки, в которые там и сям вкрапливались образы мужчин и женщин — поклонников Venus Libentina [10]. Когда Таяма писал свои путевые заметки, он просто преображался. Он чувствовал себя свободно, становился веселым, откровенным, был прост и наивен. Ну прямо как осел, который дорвался до свежей зеленой травки. Думаю, с полным правом можно сказать, что в этой уж области Таяма был уникален. В то же время тогда еще в большей степени, чем теперь, мы не считали Таяма авторитетным идеологом и столпом натурализма в литературных кругах. Если же говорить без обиняков, мы пренебрежительно относились к его заслугам в области натуралистического течения и считали, что «все это благодаря тому, что такое уж тогда было время».
Покончив с обсуждением Таяма Катая, я и Нарусэ простились с Кумэ. Когда мы вышли на улицу, короткий зимний день уже клонился к вечеру, и солнце отбрасывало на тротуар длинные тени. Ощущая хорошо нам знакомое и всегда желанное творческое возбуждение, мы дошли пешком до Хонго, 3, простились и поехали по домам.
2Спустя некоторое время в погожий солнечный день я и Нарусэ после утренних лекций отправились к Кумэ. Мы вместе пообедали, и Кумэ показал нам рукопись пьесы, которую ему прислал утром Кикути из Киото{170}. Это была одноактная пьеса «Любовь Саката Тодзиро», главным героем которой являлся известный актер Токугавской эпохи. Кумэ предложил мне просмотреть ее. Я начал читать. Тема была интересная. Однако непомерно многословные диалоги, своей пестротой напоминавшие ткани в стиле юдзэн{171}, портили все дело. Создавалось впечатление, будто подъедаешь остатки со стола Нагаи Кафу и Танидзаки Дзюнъитиро{172}. «Весь грех в многословии», — вынес я свой приговор. Нарусэ тоже прочитал пьесу и выразил отрицательное к ней отношение. «И меня она не восхищает. Чувствуется какой-то школярский подход», — согласился с нами Кумэ. От нашего имени Кумэ написал Кикути письмо, изложив в нем критические замечания по поводу пьесы. Тем временем к Кумэ зашел Мацуока. В отличие от нас троих, обосновавшихся на литературном факультете, Мацуока занимался на философском. Но он, как и все мы, посвятил себя писательской деятельности. Среди нас троих он был особенно близок с Кумэ. Одно время они вместе снимали комнату в доме, расположенном позади военного арсенала. В этом доме изготовляли рабочую спецодежду. Будучи романтиком в практической жизни, Кумэ часто погружался в беспочвенные мечты о том, как он наденет на себя один из этих голубых рабочих комбинезонов, поставит европейский стол в своем личном кабинете, который напоминал бы студию художника, и назовет этот кабинет творческой мастерской Кумэ Macao. Всякий раз, когда я посещал снимаемый ими угол, я вспоминал эту мечту Кумэ. Однако Мацуока владели мысли и настроения, не имевшие ничего общего с рабочей спецодеждой. Еще не освободившись от плена сентиментализма, он уже в то время все глубже и глубже погружался в волны религии. Он помышлял создать новый Иерусалим, не связанный ни с Западом, ни с Востоком, увлекался Киркегором{173}, пытался писать довольно странные акварели. Я и сейчас хорошо помню, что среди его акварелей была одна, которая более напоминала картину, когда ее ставили вверх ногами. После того как Кумэ переехал из их общей комнаты в Мияура, Мацуока снял угол в доме на Хонго, 5. Он и сейчас живет там и пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакья Муни{174}.