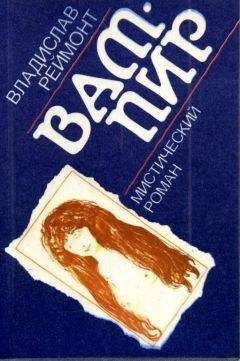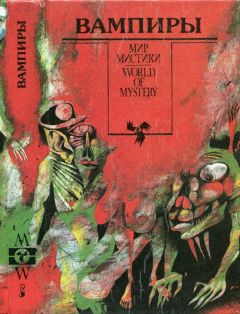Владислав Реймонт - Мужики
— Так напейся воды, кожаный мешок!
— Что скоту здорово, то человеку смерть! Знаете поговорку: "Пусть кто хочет водою спасается, а водка всякого на ноги поставит".
— Ну, раз ты так думаешь, — пей водочку.
— Ваше здоровье, войт! А еще говорят: "Крестись водой, на свадьбе водку лей, а на похоронах — слезы".
— Славная поговорка! Пей другую!
— Не откажусь и от третьей. Я всегда пью одну за первую жену и две — за вторую.
— Это почему же?
— Да потому, что вовремя померла, чтобы я мог третью себе подыскать.
— Ишь, о бабах еще думает, а у самого к вечеру глаза не видят!
— Да я и в потемках еще могу палкой бабьи бока нащупать.
Вся изба грохнула смехом.
— С Ягустинкой тебя сосватаем! — кричали женщины. — Она тоже выпить любит и говорунья не хуже тебя!
— Сказано: коли муж работящий, а жена горластая, они полмира добудут.
Войт подсел к Амброжию, затеснились к ним и другие, расселись, где кто мог, а кому места не нашлось на лавках, те стояли; компания заняла пол-избы, не обращая внимания на танцующих.
И посыпались шутки, выдумки разные, веселые прибаутки, рассказы, — изба гудела от хохота. А всех больше ораторствовал Амброжий, сочинял и врал людям прямо в глаза, но так складно и забавно, что слушатели покатывались со смеху. Ему не уступала и Вахникова, которую ни одна баба на деревне не могла переговорить, вторил им и войт, насколько ему позволяло звание.
Музыка играла вовсю, молодежь танцевала, а старики так расходились, что забыли обо всем на свете.
Вдруг кто-то увидел в сенях Янкеля. Его мигом затащили в комнату. Еврей снял шапку, поклонился и стал дружески со всеми здороваться, не обращая внимания на то, что обидные прозвища камнями сыпались на него.
— Рыжий!
— Нехристь!
— Кобылий сын!
— Тише вы! Надо его угостить, налейте ему горелки! — распорядился войт.
— Проходил я мимо — дай, думаю, погляжу, как хозяева веселятся. Спасибо, пан войт: как не выпить за здоровье молодых!
Борына вынес бутылку и налил ему. Янкель вытер рюмку полой своего длинного кафтана, надел шапку и выпил раз, потом другой.
— Оставайтесь, Янкель, не станете трефным! Эй, музыканты, играйте еврейскую, пускай Янкель потанцует! — кричали вокруг смеясь.
— Могу и потанцевать, это не грех.
Но раньше чем музыканты разобрали, чего от них хотят, Янкель потихоньку выбрался в сени и шмыгнул во двор — пошел к Кубе отбирать ружье. В избе и не заметили его ухода. Амброжий продолжал складно врать, а Вахникова — вторить ему, и так время прошло до самого ужина. Уже и музыка смолкла, передвинули столы и хозяйки грохотали посудой, а они все еще болтали.
Напрасно Борына приглашал их за стол, никто его не слушал. Потом и Ягуся стала настойчиво звать, но войт втащил ее в круг, усадил подле себя и не отпускал.
Наконец, Ясек Недотепа закричал во все горло:
— За стол, люди, — все остынет!
— Тише, дурень, дадут и тебе миску вылизать.
— Амброжий тут вам врет бессовестно и думает, что ему кто-нибудь поверит!
— Ясек, если тебе дадут в морду, бери — твое! А меня не тронь, не сладишь.
— Давай померяемся! — крикнул глупый парень, поняв слова Амброжия буквально.
— Вол тоже одолеть может человека — пожалуй, еще лучше, чем ты.
Мать Ясека заступилась за сына:
— Амброжий за ксендзом убирает, так думает, что от него ума набрался.
— Дура! Впусти телку в костел, она и хвост задерет! — буркнул обиженный Амброжий и первый двинулся к столу, а за ним и другие стали поспешно занимать места, так как стряпухи уже вносили дымящиеся миски и по комнате распространился аппетитный запах.
Расселись по старшинству: Доминикова с сыновьями посредине, а дружки жениха и невесты сели все вместе. Борына и Ягуся не садились, они за всем надзирали к прислуживали гостям.
Наступила тишина, только за окнами дрались и шумели ребятишки, а Лапа с лаем бегал вокруг дома и скребся в дверь. Гости тихо, чинно занялись едой и усердно опустошали полные доверху миски, — только ложки стучали да звенели рюмки.
А Ягуся не переставала потчевать всех, каждому подкладывала на тарелку то мяса, то чего-нибудь другого и просила есть досыта. И так это мило у нее выходило, так умела она каждому сказать кстати ласковое слово, так всех радовала своей красотой, что не один парень провожал ее тоскующим взглядом, а мать расцветала от гордости и то и дело откладывала ложку, чтобы полюбоваться дочерью.
Видел это и Борына. Когда Ягна шла к стряпухам, он бросался за ней и, догнав в сенях, крепко обнимал и целовал взасос.
— Хозяюшка моя милая! Какая ты у меня умница и гостей принять умеешь не хуже какой-нибудь знатной пани!
— А как же — разве я не хозяйка? Ступайте-ка в горницу! Гульбас и Шимон что-то надутые сидят и едят мало. Выпейте с ними!
И он слушался ее, делал все, что она хотела. Ягусе было сегодня как-то удивительно весело и легко. Она чувствовала себя хозяйкой, госпожой, чуть ли не помещицей, и власть как-то сама собой шла к ней в руки, с нею пришла и уверенность и гордость, полная спокойствия и силы. Она ходила по дому степенно, свободно, за всем зорко присматривала и разумно распоряжалась, как будто уже бог весть как давно была хозяйкой этого дома.
— Честная ли она, это старик скоро узнает, и это его дело! — шепнула Ева Ягустинке. — Но хозяйка из нее, кажись, выйдет настоящая.
— Умна и Каська, коли полна кадка! — злобно ответила Ягустинка. — Это все так будет, пока ей старый не опротивеет… а тогда она начнет бегать за парнями.
— Нет этого она не сделает… Матеушу теперь отставка… Да только он-то ее, пожалуй, в покое не оставит…
— Оставит! Его кое-кто другой прогонит.
— Борына?
— Ну, Борына! Есть кое-кто посильнее и Борыны и Матеуша… есть! Придет время, увидите все! — Ягустинка хитро усмехнулась. — Витек, прогони-ка собаку — лает проклятая так, что в ушах звенит. Да и ребятишек разгони, а то еще стекла разобьют и паклю растащат.
Витек выскочил с хлыстом, и Лапа затих, но поднялся визг и топот убегавшей детворы. Витек гнался за ними до самой улицы, но поспешил вернуться, так как в него полетел град камней и грязи.
— Витек, постой! — крикнул Рох, стоявший в темном углу двора. — Вызови Амброжия, скажи, что дело спешное. Я на крыльце подожду.
Амброжий вышел только через несколько минут, очень рассерженный тем, что ему не дали доесть свинину с горохом.
— Костел горит, что ли?
— Не кричите! Пойдемте к Кубе, — он, кажется, помирает.
— Ну и пусть подыхает и не мешает людям есть! Был я у него после обеда, говорил ему, чертову сыну, что в больницу надо. Отрезали бы ему там ногу — и сейчас бы выздоровел.
— Вот оно что! Теперь понятно… Он, кажется, сам себе уже ногу отрубил.
— Иисусе, Мария! Как это сам отрубил?
— Пойдемте скорее, увидите. Шел я переночевать в хлеву, и только вошел во двор, Лапа как бросится ко мне — лает, скулит, тащит меня за полу, а я не мог понять, чего ему надо… Он побежал вперед, сел у конюшни и воет. Подхожу, смотрю — Куба лежит поперек порога, головой в конюшне… Я было подумал, что он на воздух выйти хотел и упал без памяти. Перенес его на полати, засветил фонарь, чтобы воды поискать, а он весь в крови, белый, как стена, из ноги кровь так и хлещет! Скорее, а то как бы не кончился!
Они вошли в конюшню, и Амброжий принялся быстро приводить Кубу в чувство. Куба лежал без сил и хрипел сквозь стиснутые зубы. Чтобы влить ему в рот немного воды, пришлось их разжать ножом.
Нога у него была перерублена в колене, держалась только на одной коже, и из нее обильно лилась кровь.
На пороге алели пятна крови, валялся окровавленный топор и точило, которое обычно стояло под навесом.
— Да, сам отрезал! Боялся больницы, думал, глупый, что сам себе поможет. Вот отчаянный! Господи Иисусе! Чтоб человек сам себе ногу оттяпал! Просто не верится! Крови он очень много потерял…
Куба вдруг открыл глаза и смотрел довольно осмысленно.
— Отлетела? Я рубнул два раза, но в глазах у меня потемнело… — прошептал он.
— Больно тебе?
— Нет, ничуть. Только из сил совсем выбился…
Он лежал спокойно и даже не вскрикнул ни разу, пока Амброжий укладывал ему ногу, мыл и обертывал ее в мокрые тряпки.
Рох, стоя на коленях, светил ему фонарем и горячо молился, слезы текли по его щекам. А Куба улыбался радостно, трогательно и кротко, как брошенный в поле ребенок, который еще не понял, что матери нет, и радуется шумящей над его головой траве, смотрит на солнце, тянется ручками к пролетающим птицам и на своем языке лепечет, разговаривает со всеми. Кубе хорошо было — совсем не больно и спокойно, а на душе так легко и весело, что он и не думал больше о своей болезни и только хвастался шепотом — как хорошо он наточил топор, ногу на пороге уложил и ляпнул прямо по колену… заболело оно, но нога не отскочила… тогда он еще раз, изо всей мочи… — и вот теперь ничего не болит; помогло, видно! Скорее бы силы вернулись, так он не валялся бы больше здесь на нарах, а тоже пошел бы на свадьбу, поплясал бы… и поел… потому что есть хочется!