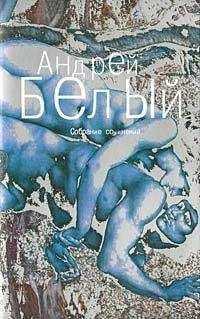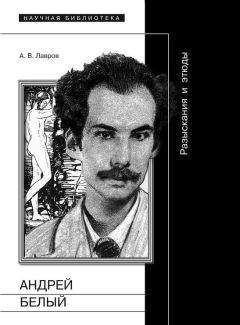Андрей Белый - Серебряный голубь
Так вот: -
Днем же Петр в красной рубахе, пропотевшей на спине, строгал бревна под веселый лязг пил, пилочек, под докучное, как снег, паденье древесных опилков, под докучное жужжанье мух в столяровской избе.
В кротком солнечном свете, бывало, что рвется в окна, пересыпается столб пылинок, ясная сыплется из-под пилы пыль опилков, будто пыль света; в ясном том свете, в ту ясную пыль, склоненный к бревну достойного хозяина, строгий лик иконописный; говорит за работой мало:
– Дай, барин, фатерпас…
– Вот ватерпас.
– Таперича нужно едакое уравнение кресельных ручек – вот какое?…
И замолчит.
Работает Митрий Мироныч: то приложит долото к дереву и бьет по нему молотком, взлетающим над головой в солнца блеск, то костлявой ухватится он рукой за пилу и перепиливает потом, задыхаясь от поту, бревна обрубок – но все-то у столяра выходит очень даже достойно, со смыслом: заказчикам всякого сорта столяр потрафлял; так и работал он: и работа всегда имелась; и платили очень, очень недурно. А кругом яркий жар, или бледный блеск, и надо всем Лик Спасов, благословляющий хлебы; под Ликом зелененькая лампадка, полная масла, искрой попрыскивает, посвечивает, помаргивает; и спокойно хочется тебе умилиться на величавый труд этих достойных людей; труд несуетливый – взглянешь и скажешь: «благослови, Господи, труд этих человеков!»
Ан, к вечеру шесть новых стулов у стены стоят в разобранном виде: будут люди с думой на стулья угрюмо садиться, но в труде вложенная в древо молитва из стула будет невидимо переливаться пламенем плавным в тех, что, задумавшись, на сработанных стульях сидели: всякие люди купят те стулья: повезут их в Москву, в Саратов, Пензу, Самару и во всякие иные славные русские города, привезут, уставят их люди, и сядут: и долго будут люди те думать, сидя на стульях, и о жизни стезе, и о том, что есть то, что есть; и вещи отделятся от своих случайных имен; и сидящий в стуле скажет: почему стул называется «стул», а не «ложка», и почему я «Иван», а не «Марья»?
Работайте же, работнички, над предметами новыми: благослови, Господи, труд этих человеков!
Иной раз, среди стука молотка и жужжанья мух, эти строгие люди, обливаясь потом, заводили строгие свои песни; заводил песнь космач; угрюмо уперевшись в бревно молотком, он начинал:
Среди самых юных лет
Вяну я, аки нежный цвет.
Господи, помилуй!
Казалось, что некий сон, бывший когда, и еще не ставший явью, вернулся, прелестным светом бьет в окна, оясняя затаивающих в угрюмости радость человеков этих, в поте лица строгающих новую жизнь; неописуемое вставало; радужная света завеса срывалась со света завесы: все в свете срывалось, обнажая неописуемое, когда столяр подтягивал в нос:
От младенческих пелен
Был я Богом посещен.
Господи, помилуй!
А из парадной из горницы сладкий голос Матрены, засевшей за чистку картофеля, поднимался и падал приветно:
Мы, оставя всех родных,
Заключась в стенах святых.
Господи, помилуй!
И все подтягивали:
Господи, помилуй!
Там, в парадной горнице, Бог весть, что там исполнялось: туда не смели глядеть ни космач, ни Петр: вон, вон, о, Господи, красная юбка Матрены Семеновны: вон, вон из-под юбки ее босая ножка под столом бросается в глаза из полуоткрытой двери; и ножку ту перерезал жизни луч световой; свет перерезал сердца им; бьются в груди отрезанные сердца части: столярничают, подпевают:
В бесконечных временах
Нам радость в небесах.
Господи, помилуй…
Воздух в горнице греет светом, в воздухе пахнет потом: строгая песнь, возникая, обрывается; обрываясь, возникает. Будто бы мир здесь образовался свой, новый, на пространстве всего лишь нескольких квадратных саженей, отрезанных от прочего мира деревянными стенами. Дарьяльскому во время пения начинает казаться, будто бы сошествие Святого Духа происходит на этих четырех квадратных саженях; Дух льется невесть откуда; в углах раздаются трески: вот кусок дерева, положенный на стол, подпрыгнул, движимый Духом, и покатился в стружки. Но ни он, ни космач, ни столяр не прерывают работы; будто бы и нет ничего, что есть. А вот световое пятно, лежащее на груди столяра, двумя светлыми крыльями срывается со столяра и, розовея, летит по стенам к Дарьяльскому на грудь: багровое освещает ему бревна обрубок своим багровым огнем; но то солнечное отраженье; оно движется быстро: укатывается солнце; уже вечер.
За окнами же близко, близко целебеевский парень благим матом ревет модную, кем-то по селам пущенную песнь:
Ах ты, слон, слон, слон –
Хоботарь:
Тромба Тромбович –
Трембовельский.
Вечер: заскорузлыми пальцами отгребает Дарьяльский желто-розовые от зари стружки; космач, пыхтя, собирает гвозди, набирает их в рот; изо рта достает и быстро приколачивает к доске; Матрена Семеновна прошла, шурша стружками; у нее строго сдвинуты брови: глупая баба – чего ж ей таиться – уже ведь вечер, и теплятся звезды; уже прохлада бирюзой, и сквозной, и искристой дальние заливает рощи, и все там хмурится – сеется мрак и множатся тени, – а напротив усталое солнце истекает последним огнем: рубанки, фуганки, сверла Митрий сложил, свесил над ними тонкое мочало бороды, задумчиво оперся на пилу, и потом тихонько поплелся из избы обшлепанными лаптями; уже он на лугу, – и детишки от него прочь; хмурится вечер: скоро у всех тех, которые днем ходят с тусклыми очами, будут ясные очи, с поволокой, что полные масла голубые лампады; и тихие их промеж себя будут речи, что сахарный мед.
Светлый свет, утром рождаемый, к вечеру уже ослепительно блещет из очей этих трудом, что постом, преображающих себя человеков.
Ловитва
Бежит на аер сырой перламутровая рябь; в сыром в аере в зеленом уже более часу Дарьяльский тут горбится красным пятном; ушла далеко в воду от него уда – туда, где влажные пляшут на воде куски перламутров, разбиваясь о берега пузырчатой, жалобно поплескивающей водой; и ясно вниз от удочки натянута нить – и качается поплавок, проплывает грустная утица – а за ней тянется рябь; танцуют куски перламутров и над ними – стрекозы; позванивает в ухо Бог весть как с весны уцелевший комар; на черной землице в бумажке у ног копошатся красные черви; село сбоку от зари – яхонтовое, сверкающее крышами, стеклами, бревнами; дико сверкающий впереди кусок неба, и тоже яхонтовый.
Засевший где-то сбоку, Александр Николаич, дьячок, вытягивается разом; поплавок его пляшет, взлетает уда; и бьющаяся рыбёшка, светлые рисуя знаки чешуйчатым своим тельцем, попадает в жесткие дьячковские пальцы, где ей разрывается рот, и уже – пломб: булькнула в ведерце.
– Ай, да ловитва!
– Да! – отзывается из аера Петр.
– Исполать же и вам! – покрикивает дьячок.
– Да, не ловится что-то. Молчание: в молчании меркнет заря.
– Я на вас посмотрю, Петр Петрович, ей-Богу, простите за откровенность: ну, чего иетта вы едва ли что зачудили: барин, можно сказать, барином; и лицом Господь не обидел, и ученостью, так-таки, начинены, а какое-такое, прости Господи, наважденье: при всем том вашем и поступили в работники – да к кому?! К Митьке столяру!
У Дарьяльского ноги болят, спину ломит, поднывают с работы руки, в душе же – сладость да радость, блаженство неизреченное; на дьячковское слово усмехается; смотрит – туда, чрез село: в голове-то его рифмоплетчество, ладно складываются слова:
А ярка ясный яхант
В прахладу влаги пал…
Все – «а я-а» да «а-я-а»: рифму бы к яхант? А рифмы-то нет – что за черт! А поплавок-то его подплясывает: крупная, видно, рыбина укусила червя.
– Отчего же, Александр Николаевич, и мне не столярничать? И так я очумел от книг да от ученья: столярничаю себе…
– Для, значит, моциону, – осклабился дьячок, – точно оно; тоже вот как на какую голову – книга-то; иная от книги голова и просто балдеет. Вот хоть бы я: как книгу раскрою – пошли в мозгах писать турусы да белендрясы.
– Скверная штука – ученье!
– Хе-хе: балда балдой! «Взз-взз-взз» – пролетает ласточка. Молчание: меркнет заря.
– Последняя ласточка!
– Недолго им тут летать, сгинут – а куда?
– В Африку, Александр Николаевич, – в Африку, к мысу Доброй Надежды.
– Неужли в Африку? – удивляется дьячок.
– Так-таки и улетят.
– Летуньи.
– Летуньи, – умиляется и Петр.
Оба следят за ласточкой, как кружит белогрудая, и кружит, и летит, и зовет, и пищит, – и туда, и сюда, и туда, и сюда: «и в и в и»; грудью к пруду прильнула, под самый крест колокольный взвилась и над этим теперь от зари яхонтовым знаком затанцевала в воздушном восторге плясавица-ласточка: «ививи-ививи»…
– Ишь пляшет!
– Что царь Давит пред ковчегом завета [81].
И Петр думает: «милая, милая, заветная ласточка, белогрудая»; летит легколетная ласточка… И повизгивает про Катю. «Ививи! Ививи» – ласточка унеслась к Гутолеву: «Ививи» – замирает над деревьями; тихо: расходятся на воде круги, – и душемутительная дума, плаксивый звук накачиваемой из колодца воды, – тишь, гладь, сонь, мгла. Во мгле пропадает дьячок; уже его нет как нет; и душемутительная дума.