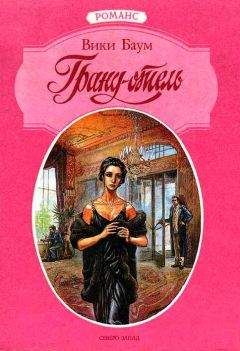Мария Пуйманова - Игра с огнем
Да, еще одно мертвое тело лежит в часовне, но Ева забыла о нем в эту минуту, она не в силах отвести глаза от отцовского лица. Это ее отец, и никогда он ей не скажет больше своим глуховатым, сдавленным голосом: «Умница, жаль, что ты не мальчишка!» И дочь поникла в слезах. Никогда больше не дрогнут искривленные губы, и он не упрекнет ее в дезертирстве, — если ушла с фабрики, так почему, по крайней мере, не преподает в его школах! Папочка, прости, я не верила в твои теории. Но тебя я любила, любила. А он лежит, вытянувшись во всю длину, что-то высматривая своими настороженными глазами и разоблачая ее половинчатую правду. «Умница, признайся по чистой совести: я был слишком значительным человеком. И потому ты ушла с моего пути». Мертвые, они заглядывают нам в душу. Великан со дня рождения угнетал крошку Еву своим именем. А она хотела чего-нибудь стоить и сама по себе. Этим она гордилась, да, гордилась. Поставила на своем и гордилась. Мертвые умеют перевернуть пашу душу. Зависть и гордость. Она не упрекала отца, не раскаивалась. Теперь все уже поздно. Больше никогда…
По каменному полу прозвучали чьи-то шаги, цветы зашелестели рядом с Евой. Оглянулась, не мачеха ли это? Но шаги направляются в сторону. Рядом с гробом Казмара стоял другой, Ева не думала о нем. К тому гробу подошла женщина. Молодая, в черном платье, с непокрытой головой, в руках у нее корзина цветов. Она поставила ее на пол, преклонила колена, перекрестила мертвого летчика, постояла с убитым видом, потом начала устилать гроб цветами. Она делала это с такой осторожностью, точно прикасаясь к больному, с такой заботливостью, точно верила, что принесет ему пользу.
— Еще несколько розочек в изголовье, — рассуждает она вполголоса, — вот так… чтобы тебе лучше спалось. Мы не думали об этом, когда вместе рыхлили для них землю, правда, Еничек?
Вся скорбь, которая, словно камень, угнетала молчанием дочь Казмара, выливалась из уст женщины певучими словами колыбельной песни. Она думала вслух, как делают женщины из простонародья.
— Еничек, — говорила она, — я знала, я так просила тебя. Злосчастный туман… — И она заплакала. — Не надо было слушать его, не надо. Что ему! Ведь он жил достаточно. А ты, Енда…
Ева Казмарова ужаснулась. Она шевельнулась, чтобы подойти к вдове летчика, но в эту минуту между ними пролез Кашпар. Он осматривал погруженную в полумрак часовню, прежде чем у гроба станет первый почетный караул из молодежи Казмара и к покойникам откроется публичный доступ. Он поспешно зашептал что-то молодой женщине, охваченной горем, указывая глазами на барышню Казмарову… «Его дочь», — слышит та. Но вдову это не тронуло.
— А я жена Аморта, — ответила она.
— Уходите, уходите, пани, вы ему не поможете. Не плачьте, мы о вас позаботимся.
Он попробовал ее увести.
Молодая женщина вырвалась и действительно перестала плакать. Она выпрямилась с пустой корзинкой в руках, глаза ее злобно сверкнули.
— На это мне наплевать, на ваши деньги, слышите? — закричала она, как будто они были не в часовне, и снова залилась слезами. — Верните мне Енду! Мы так любили друг друга…
Страшно было услышать такие слова, а дочери Казмара тем более. Когда она слышала те же слова? Откуда она знала это? Жилистые мужские ноги, кровавые полосы вдоль ободранных голеней, это живое мясо, дергающееся в чудовищной судороге, — обгоревший Горынек. Отец запер его в пылающей прядильне, чтобы спасти склад с хлопком, он опустил за ним противопожарный занавес. Наверное, он не знал, что там кто-то остался. Он же не думал, что они оба погибнут, не стал бы, конечно, уговаривать пилота, если бы тот наотрез отказался лететь?
О том, что летчик отказывался, в один голос говорили по всем Улам. Это засвидетельствовали в протоколе все до единого: дежурный по аэродрому и механик, все рабочие, кончая самым младшим, помогавшим выводить машину из ангара. И что Хозяин уговаривал Аморта, как мог, — и ласково, и кричал, и льстил ему, обещал и грозил; и это говорили о Казмаре — теперь его больше не боялись. Аморт все время возражал, указывая на туман. Но не поддался Хозяину, даже когда тот предложил ему большие деньги за полет до Праги. Аморт уступил только тогда, когда Казмар сказал, что это нужно республике, и беспрекословно сел за руль.
У «юнкерсов» нет прибора, показывающего положение самолета по отношению к земле, так что в тумане пилот не знает, на какой высоте он летит. Аморт боялся тумана. За поездку в Африку он столько времени провел в воздухе, что нервы у него сдали. Не рассчитав, он взял слишком большой угол подъема, чтобы поскорей подняться над туманом, машина начала запрокидываться. Она потеряла скорость, мотор отказал, и самолет разбился. Знатоки восстановили всю картину катастрофы, и летчики, которые учатся на каждом несчастном случае, разнесли о ней весть по свету. Разве «юнкере» — машина?! Кто летает на трехмоторном «Дугласе», тот и слушать не станет об этом «гробе». Напрасно в нем искать кабину радиста — они летали не по радиопеленгу, а по компасу, этакому старому горшку. У «юнкерсов» нет автоматического пилота, этого нерва самолета, отсутствует пульт управления, где так удобно делать вычисления. Этот гроб имел одинарное управление, разве так летают за море? И после этого удивляются, что у пилота сдали нервы. Аморт облетел все североафриканское побережье один. Он благополучно вернулся из Африки и разбился у места своего рождения. Ему, конечно, нужно было как следует отдохнуть. Пилот имеет право отменить полет, если плохо себя чувствует. Прочитайте-ка коллективный договор. Но какие там в Улах коллективные договоры! Торговые — это верно, здесь их уважают!
Тяжело было барышне Казмаровой, когда она добралась до истины. Всего полностью, как вам рассказываю я, Еве не говорили. Розенштам щадил в ней дочь Казмара, директор Выкоукал — наследницу «Яфеты». Но ей достаточно было увидеть и услышать вдову Аморта. Даже смерть не кончила счетов Евы с отцом.
Двойные похороны были страшны и торжественны. Люди с хуторов, запасшиеся съестным, целыми семьями начали сходиться уже с вечера и, переночевав у родственников, на рассвете, хотя похороны были назначены только на полдень, расположились табором по сторонам улецкого шоссе, по которому должна была следовать процессия на лесное кладбище. Люди держались за места, не желая пропустить зрелища, пришли оплакать Хозяина. Это был жестокий человек, но у женщин с гор в то время были покорные сердца. Каков бы он ни был, он давал их мужьям хлеб, преобразил край своим предприятием и сделался легендарным героем. Ему не удалось смежить веки, но глаза его больше ничего не высматривают. Над ним заколотили крышку, на черный гроб положили тяжелый венок — вдвоем не унести, на венке радуют взгляд трехцветные ленты нашего флага. Не говорил ли Кашпар по улецкому радио, что великий покойник стал первой жертвой пашей мобилизации, то есть тех самых великолепных маневров, которые возбудили уважение к нам у нашего соседа? Пусть говорят как угодно, мы не настолько глупы. Лишь бы немец испугался, а мужчины вернулись домой. Но посмотрите туда, на этот венок из белых роз и сиреневых лент, как это красиво! Это гроб Аморта. Еве его не забыть. Целые товарные поезда с венками прибывают в Улы; автомобильные парки вырастают на всех улицах и площадях. Я не знаю господ министров торговли и промышленности, ни членов дипломатического корпуса, которые сидят на трибуне во дворе заводоуправления, где совершается траурный обряд, ни этих представителей от учреждений и корпораций. Дама с блокнотом, еще достаточно бойкая для своих лет, бывшая обозревательница мод, а теперь театральная рецензентка, расскажет вам все это вместо меня. Ее специальность — спектакли, и она, наверное, трогательнее, чем я, опишет вам траурное сукно и флер улечан, оплакивающих Казмара, и скорбный желтый свет фонарей средь бела дня. Она с глубоким волнением выслушает все эти утомительные нескончаемые речи, чтобы поместить их затем в газете «Народный страж», и умудрится заметить слезы даже на тех глазах, которые остались сухими. А я ручаюсь за старого Горынека. Он сидел в своей коляске и плакал от всего сердца. Лидка стояла над ним, как туча, и сурово, по-крестьянски, поджимала губы. Если бы здесь был Францек Антенна, он кощунственно насмехался бы над торжественными похоронами человека, который отнял мужа у жены.
В последнюю минуту на трибуну с гостями поднялась красивая дама, обратившая на себя всеобщее внимание. Многие перестали смотреть на трех женщин в глубоком трауре и перевели взгляд на высокую красавицу. Черный цвет выгодно подчеркивает совершенство ее талии в превосходно сшитом и превосходно облегающем ее костюме, под которым скрывается небольшая красивая грудь в замечательном бюстгальтере; нежная белая кожа соблазнительно просвечивает из-под черной ажурной блузки; ожерелье из крупных камней вокруг шеи — просто и вместе с тем оригинально; волосы цвета платины красиво оттеняет пикантная шляпка с вуалеткой, тень от которой придает загадочное выражение глазам с жесткими веерами ресниц. С виноватой улыбкой дама усаживается возле надутого старикашки, похожего на лягушачьего короля. Он, очевидно, ожидал ее и, судя по недовольному выражению лица, сердился, что она явилась так поздно. Но ее нежное, искусно подкрашенное личико, окруженное длинными локонами, само объяснило, почему она опоздала. Дамам из дипломатического корпуса, поскольку они вообще обратили на нее внимание, показалось, что ее завивка чересчур свежа, костюм слишком нов и что она некстати для печального обряда надушилась. Но мужчины так испорчены, что с явным удовольствием смотрят на красивую женщину даже в такие минуты, и Ро это прекрасно понимает. Наконец-то справедливость восторжествовала! Ро на трибуне, на которую когда-то в день Первого мая искоса поглядывала снизу бедная отвергнутая девушка. Теперь она сидит здесь в своем скромном трауре от Хорста, где она некогда была манекеншей, и присутствует.