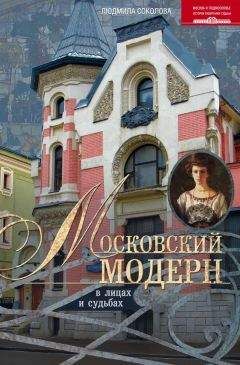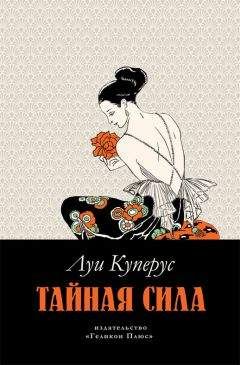Рихард Вайнер - Банщик
И, клянусь, я не шучу. Я серьезен, ибо знаю, как вы вжились в это свое слегка облезлое блаженство, знаю, что для вас, так же, как и для меня, важны комфорт, хорошая полиция, безопасность, предусмотрительность, рациональное регулирование проституции, беспристрастность жюри на конкурсах и при распределении премий, совершенство демократии, о которой я не знаю, важна ли для вас она сама или только споры о ней, являющиеся якобы ее коррелятом. Для меня и для вас — ставя на первое место себя, я вовсе не зазнаюсь, а совсем наоборот — важно в первую очередь (в первую очередь? Как это? Да вот так!) выбить следующие широко распахнутые двери: «Man lebt nur einmal»[22]. Я прошу вас не принимать ничего из сказанного выше или ниже за памфлет, направленный против цивилизации; за бессмысленный трактат, рекомендующий вернуться к природе, за партийное применение формулы «Восток против Запада», за поддержку примитивных цивилизаций и т. д.
Цель у меня очень скромная: разъяснение моей поэтики, а на данном этапе — крохотная невинная инсинуация, заключающаяся в том, что, несмотря на все: на старательно натренированную способность судить, которая ничтоже сумняшеся отождествляет интеллектуальное доброе житье с блаженством, которая возвысила благотворительность до некоего абонемента на спасение, а коллективные чаепития — до ангельских хоров, что, несмотря на эту уверенность, будто тот, у кого спокойна совесть здесь, уже находится на верном пути к добру, правде, спасению, милости и славе там, так вот, несмотря на все это, даже в убежденности величайшего оптимиста зияет порой мучительный провал. В провале этом бурлит неопределенность, которая внушает тебе — тебе, сидящему в первом, третьем, восьмом ряду в кресле номер х, у, z, тебе, то есть кому угодно, — что власть, безопасность, твоя относительная уверенность (но разве ты допустишь, что она лишь относительная) не в силах победить эту смешанную со страхом ностальгию по удивительной множественности, цельности, по тому да — нет, по тому вакууму вопросов, среди которых тебе бы лучше обосноваться, чем их задавать; в то время как он, увидев себя в зеркале чем-то прямоходящим, изумляется не меньше либо изумляется столь же мало, как если бы гладь омута, осколок зеркала или отполированный наконечник копья отразили крокодила, банан или прибрежную скалу, одновременно являющуюся скалой, предком и им самим.
Мы способны изумляться так же мало, как он? Употребив оборот поэлегантнее, скажу: «Задать подобный вопрос — значит ответить на него». Вовсе нет, мы не способны изумляться так же мало, как он. Наша гордость, наше чувство интеллектуальной власти над миром, наша бессмысленная надежда, что «это мы еще увидим!», зиждутся на трех столпах: законе причинности, тройном правиле и самонадеянном правиле больших чисел. На этих трех столпах располагается ложе, и на ложе этом нашей ограниченности лежится так удобно, что она не замечает своей идентичности с этими столпами. (Господам, готовым со всем своим остроумием ополчиться на слово ограниченность: здесь запрещено воспринимать это слово в том смысле, какого требует их глупость.) И умы, якобы ориентированные на религию, притворяются, будто мистики действуют им на нервы и будто они поклялись пробиваться к сути тараном Фомы Аквинского — и ничем иным. Наверное, при помощи схоластики действительно можно постичь суть чудес; суть — она не слишком далеко. Короче, мы не боимся, но изумляемся. Примитив — сегодняшний европеец XIV века, — хотя и боится, но не изумляется. Однако какими именно были европейцы XIV века в четырнадцатом веке? Думаю, господин Гарви слишком все упрощает: «распространенные тогда суеверия» (много ли было умов настолько просвещенных, чтобы им не поддаться?); ведьмы, шабаши, чудеса, оборотни, проклятия, превращения, порча, сглаз, фетиши, привидения, весь этот арсенал для оглупления народа (унаследованный и обновленный, не хочу говорить кем, а также приспособленный au gout du jour[23], вызывает теперь всеобщее если не уважение, то страх, совсем так же, как прежде, когда он таился в сводчатых подвалах в компании с чадящей масляной лампой, рассыпавшимся скелетом, ретортами, раскоряченным дубовым столом, большим креслом, совой) — так вот, господин Гарви твердо верит, что его земляки позже их преодолеют. Я им этого от всего сердца желаю. Но раз речь здесь идет не о благом пожелании, а о пожелании неблагом, то вопрос звучит иначе: одинакова ли суть, скажем, ритуала подпрыгивающих процессий и ритуала массового обрезания у лхотонагов? То есть можно ли ожидать, что посвящение в колдуны у дикарей через шесть столетий — если все пойдет плохо; в ином случае, разумеется, раньше — станет таким же историческим курьезом, каким в наши дни являются подпрыгивающие процессии в уж не знаю каком немецком городе или ползающие процессии во французском Рокамадуре; а может, европейские массовые внушения, суеверия и обманы уже и в XIV веке не имели той оккультной сущности, той захватывающей силы (слово «захватывающий» здесь надо понимать чисто этимологически, без мельчайший лирической фальши), той реальности снов, которая еще присуща в наши дни примитивным обрядам? Я склоняюсь скорее ко второму мнению. Полагаю, что даже самый отсталый (замечательное слово!) европеец XIV века боялся меньше — и соответственно меньше понимал, — чем сегодняшний людоед из Новой Гвинеи.
Ему, наверное, запросто могло прийти в голову — впрочем, размышлять об этом он был не способен, — что его соседка Вероника, толстая баба, кровь с молоком, которая так хохотала, когда он залезал ей под юбку, и есть та самая проклятая паршивая черная кошка, что путается у него под ногами, когда он по ночам возвращается из кабака, — а потом исчезает, словно под ней земля разверзлась, стоит ему кинуть в нее башмаком, но гораздо труднее ему было бы вообразить, что если Вероника и кошка являются одним и тем же, то это совершенно естественно. Тораджам, согласно многим свидетельствам, это и нынче с легкостью удается, а вот Вероникиному соседу Здиславу чудился запах серы… Здиславы чуяли злого духа. А ведь любое общество, приписывающее чудеса злым духам, теряет способность видеть сны наяву, теряет свою невинность и начинает изумляться. У примитивного человека могут быть враги среди созданий той же фазы, в которой находится он сам, но вне его фазы врагов нет, есть только наводящие ужас. Племя кориаков бьется, скажем, с племенем ленгуасов, настроены они примерно так же, как воюющие друг с другом народы цивилизованные (разве что кориаки и ленгуасы в своей жестокости менее лицемерны), но дух медведя, убитого без соблюдения примиряющих обрядов, приходит мстить своему роду не как враг, а просто потому, что его приход неотвратим, как закон. С помощью фетишей колдун эве добивается результатов, сходных с теми, что достигались европейскими средневековыми колдунами, но это — не магия. Религия-суеверие сжигало священников суеверия «черного», а колдун тонга одновременно священник, и рядом с ним нет другого священника. Если кодзамам известна Мелузина, то готов биться об заклад, что ее завывание ничуть не похоже на завывание Мелузины наших предков (иная тональность). Короче говоря, я полагаю, что, начни развиваться нынешние европейцы XIV века, они не пойдут — в силу другой своей сущности — в том направлении, что и европейцы настоящего XIV века. Эти богаче тех, а те были богаче, чем мы. Если примитивный человек для нас несравненно более чужой, чем наш средневековый предок, то это вовсе не означает, что мы можем проследить сны этого предка. По дороге в двадцатый век столько всего рассыпалось, что восстановить почти невозможно. У черного нет оттенков. И вещи неизвестные известны не более, чем вещи, еще менее известные. Здислав — это, обобщенно говоря, мы; кодзамы — не мы; и все же Здислав для нас загадка не меньшая, чем кодзамы. Старые сонники свидетельствуют о том, что в Средневековье сны были страшнее, чем во времена, просвещенные культурой обязательного образования. Статистика — наука бесценная, но есть у нее дурная привычка проглатывать некий элемент, и этим элементом якобы случайно оказывается, как правило, тот, что наиболее необходим для познания «положения вещей». Наверное, в Средние века сны и в самом деле чаще бывали страшными. Однако сонники могут свидетельствовать только о количестве снов, а вовсе не об их качестве. Я благодарен за знание, что средневековые сны были страшнее, но кто расскажет о том, что кажется мне несравнимо более важным, а именно — были ли они фиолетовее, сыпучее, разреженнее, яйцеобразнее, лучше или хуже подвешены, сильнее ли дребезжали, острее ли были отточены и т. п.? Об этом, конечно, хитрая статистика из осторожности умалчивает. Ибо по опыту знает, что ей под силу обрабатывать лишь второстепенное. Как поступать с вещами, с качествами, с существенными оттенками, то есть с самыми бодливыми из реальностей, она не знает; и никто из нас не знает. Ибо они по большей части невыразимы. К сожалению, именно на основании этих реальностей, самых тонких, но и самых бодливых, можно было бы определить, как далеко мы отплыли от Здислава, до какой степени мы отшлифованы. Все свидетельствует за то, что мы Здислава своим бы уже не признали, а он не признал нас. (И не рассказывайте мне про памятники письменности!) Разве не достаточно разницы всего в одно поколение, чтобы старшие и младшие уже считали друг друга непостижимыми иностранцами?! (Ученая стезя, по которой я довольно долго шагаю, извивается подо мною, как пробудившаяся змея. Жаль, что я вот-вот соскользну с нее — ведь меня еще многое волнует!)