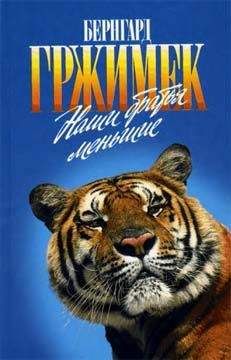Бернгард Келлерман - Братья Шелленберг
Штобвассер уже не надеялся, что Венцель вернется. Когда на следующее утро Венцель снова вернулся с Женни, Штобвассер находился в разгаре работы и стоял перед ними в запачканном глиной халате, с глиной в обеих руках, красный как рак от смущения. Выражение лица у него было почти враждебное. Венцель попросил его съездить как-нибудь в Груневальд вместе с Женни и осмотреть бассейн, который, по счастью, еще не был облицован. Затем спросил его, может ли он взять на себя исполнение канделябров для верхнего коридора в том же стиле, что вот этот, стоящий в углу канделябр.
Штобвассер, конечно, мог взяться за их исполнение. У него не было ни одного заказа в работе.
– Сколько нужно канделябров? – спросил он.
– Тридцать штук, – ответил Венцель. – Я их заказываю вам и прошу по возможности поторопиться-
Когда оба они закрыли за собою дверь, Штобвассер все еще стоял, разинув рот, уставившись в дверь заостренным носом.
– Тридцать штук, о небо! – сказал он, и у него задрожали колени. Он свалился на стул. Не мог вместить своего счастья.
– Твой друг Штобвассер – очаровательный человек. – сказал Венцель Женни. – Я люблю этих простых людей, которые что-то умеют. Они так редки у нас.
23
Естественно было, что Венцель посещал теперь все скачки, где скакали его лошади. В прошлом году и этой весной конюшня господина фон Кюне пожала мало лавров. Но лошади, казалось, только и ждали того, чтобы перейти в собственность Венцеля. Они скакали так, что радостно было смотреть. Они уже не болели, не кашляли, не хромали. Жеребец «Кардинал», дотоле совсем не известный, – господин фон Кюне собирался его уже продать, – взял вдруг крупный приз в высоком классе.
– Ты только погляди, как он скачет! – кричал в восторге Венцель и громко смеялся.
В самом деле «Кардинал» на четыре корпуса опередил всю стаю и несся вперед в бешеной скачке. Желтая куртка сверкала на солнце. Трибуны замерли от изумления. «Кардинал» взял финиш коротким галопом. Женни аплодировала так, что у нее лопнули перчатки. По совету Венцеля она поставила сто марок на «Кардинала».
Макентин поздравил Венцеля с этой удивительной победой.
– Не становится ли вам порою жутко от всех этих удач, Шелленберг? – спросил он.
– О, нет, нисколько! Я не страдаю головокружением, – ответил Венцель.
Часто Женни испытывала острую боль. Бывали целые недели, когда Венцель ею совсем пренебрегал. Хорошо еще, если звонил ей разок по телефону или находил время прислать весточку или цветок. Когда она в Италии снималась для экрана, – а длилось это почти полтора месяца, – она получила от него только одно письмо, продиктованное на машинку. И в этом письме была речь только о борьбе, которую Венцелю пришлось выдержать с лошадью, пытавшейся во время катания в Тиргартене ударить его о деревья.
В те недели, когда она как бы переставала существовать для Венцеля, она охотнее всего убежала бы куда-нибудь. Бежать! Но куда? Она знала, что никогда не убежит, что это невозможно, слишком поздно. Конечно, она знала, что тут замешаны женщины. Женщины повсюду увивались около Венцеля. Многих ослепляли его успехи, его богатство. Других подкупала его внешность, его белые зубы, его сила и неизменно веселое настроение.
А Женни терзалась, сидя одна в своей далемской вилле. Она знала, – ей об этом передали, – что у Венцеля были постоянные аппартаменты в разных отелях Берлина. Она слышала о всевозможных его похождениях и связях. Хотя она зажимала уши обеими руками, знакомые нашептывали ей все. что могли. Приятельницам доставляло удовольствие передавать ей такие новости. Венцель, как они рассказывали, открыл в маленьком загородном варьете какую-то певичку, ежедневно исполнявшую с наглыми жестами одну революционную и несколько уличных песен. Музыку к ним написал опустившийся музыкант, дирижер маленького оркестра в этом театрике, любовник этой девушки. Рассказывали, что она состоит, теперь на содержании у Венцеля и что он выкупил ее за пять тысяч марок у ревнивого дирижера. Потребовал от дирижера расписку и предъявил ее певичке. Разъяренный дирижер стрелял в Венцеля, но промахнулся. Венцель ответил ему пощечиной, сбившей его с ног.
Каким образом было людям это известно? Как мерзки были эти сплетни, как непонятны! Женни подозревала в болтовне маленького Штольпе. Она сказала ему это в лицо. Штольпе очень растерялся. Она пригрозила ему, разволновалась и даже топнула ногою, чего с нею обычно никогда не случалось. Штольпе уверял, что это неправда, но не разуверил ее.
Это были сплетни, и все же многое в этих сплетнях было правдой. Произошла ли история с певичкой и ее другом-дирижером действительно так, как ее излагали, – этого Женни не знала. Но такая певичка существовала, и не было сомнения в интересе к ней Венцеля! Он сам показал ее Женни. Они сидели в варьете, в западной части города, и вдруг на сцену вышла наглая маленькая особа, похожая на уличную женщину с восточной окраины Берлина. Она запела на берлинском диалекте пронзительным голосом, но с таким темпераментом, что публика была увлечена. Глаза у нее сверкали и грозили, пока она пела, дерзко покачивая бедрами. Сначала она пропела две уличные песни, а потом исполнила с неистовством в глазах и фанатически визгливым голосом свою революционную песню, начинавшуюся словами: «Погодите, день настанет, развеваться будет знамя в этот день в моих руках!» Ее ненависть и фанатизм казались такими неподдельными, что публика, состоявшая из богатых бездельников и богатых дам, сидела в испуге и молчании.
– Как она нравится тебе? – спросил Венцель, пытливо глядя ей в глаза.
Женни побледнела и ничего не ответила. Она ненавидела эту женщину. Она потрясла кулачком, когда осталась одна, и слезы ярости крупными каплями брызнули у нее из глаз. О, как ока ненавидела это создание! Певичку эту звали Фрици Фретхен.
За последние недели – лето было в разгаре – Женни была недовольна видом Венцеля. Его смуглое лицо как будто вдруг побледнело. Веки словно посыпаны были белой пудрой. Он сам признавался, что сейчас «мчится с бешеной скоростью», но скоро «замедлит ход». В эти недели он пил шампанское, только шампанское. Руки у него дрожали.
– Подари мне этот бокал, – попросила Женни, нежно и заботливо обвив рукою его шею.
– Да исполнится воля твоя! – сказал он. – Но ведь мне не вредно, не беспокойся. Это краткий период, он кончится. Я переутомлен и мало сплю. За минувшую неделю я спал всего – дай-ка подсчитать – всего тридцать часов. Одну ночь совсем не спал. Есть люди, которые не спят ради денег. Жаль, что нет людей, которые ради денег спят. Я был бы в их числе. Мир очень несовершенен. Потерпи еще немного. Подожди до первого августа, тогда мы поедем к морю.
Скорее бы уж настало это первое августа! Наконец, начались сборы в дорогу. Три недели предполагали они плавать на яхте по Балтийскому морю. Венцель хотел взять с собой только Штольпе и Макентина и пригласить Штобвассера.
– А затем я пригласил еще эту Фрици Фретхен, – помнишь, эту маленькую нахалку? Она будет нам петь.
Женни потупилась. Веки у нее дрожали. Она тихо сказала:
– В таком случае я остаюсь дома.
– Если это ультиматум, – сказал Венцель, смеясь, – я Фрици высажу на берег. Она это снесет.
Макентин хотел взять с собой жену, урожденную баронессу Биберштейн, тихую, дородную даму, по-матерински относившуюся к Женни. Против этого Женни не возражала. Она смеялась про себя. Фрау Макентин была совсем не опасна.
Но отъезд откладывался со дня на день. Захворал Гольдбаум, а Венцель не мог уехать, не передав дел Гольдбауму, – этому ужасному, жирному Гольдбауму, с утра до вечера поглощавшему всякую еду. Наверное, он испортил себе желудок. Наконец, в середине августа они тронулись в путь. Штольпе днем раньше поехал вперед с багажом. На следующее утро они в стосильном автомобиле понеслись в Варнекюнде, где их ждала яхта.
У Штобвассера, сидевшего рядом с шофером, слезились глаза от ветра, а когда он поворачивал лицо в сторону, ветер загибал его длинный нос. Воздух выл и ревел…
Венцель любил, как мальчик, эту бешеную езду. Но Женни была счастлива, когда они в целости прибыли в Варнемюнде.
24
Вот и яхта «Клеопатра», выкрашенная в синий цвет, гладкая как шелк. Десять матросов и капитан, выстроившись на борту, приветствовали гостей. У Женни учащенно билось сердце, когда она взошла на корабль. Она не представляла себе яхту такой большой. Все блестело чистотой и радовало взгляд, а мачта – какая высокая! Но вот уже маленький пароходик потащил их на буксире мимо мола и маяка в открытое море. Дул слабый ветер, погода стояла великолепная. Паруса поднялись. Пароходик покинул яхту, и она понеслась вперед. Вскоре раздался гонг, и стюард пригласил гостей к столу. Стол был роскошно сервирован – цветы, дорогое старинное серебро.
– Как хорошо, что великая герцогиня не сдала своего серебра на нужды войны, как этого требовал патриотизм, – со смехом сказал Венцель, – не стояло бы тогда у нас на столе это великолепное серебро!
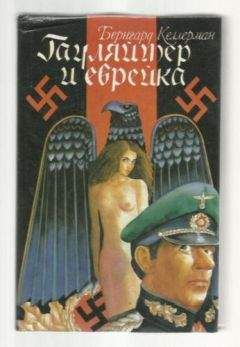

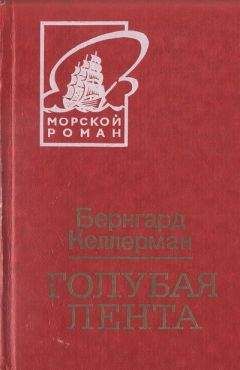
![Вальтер Шелленберг - Мемуары [Лабиринт]](/uploads/posts/books/239359/239359.jpg)