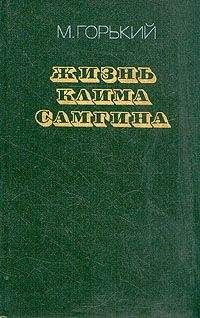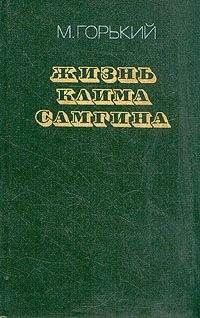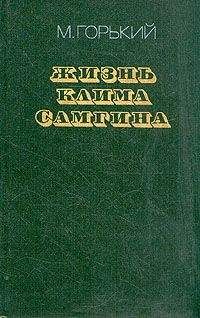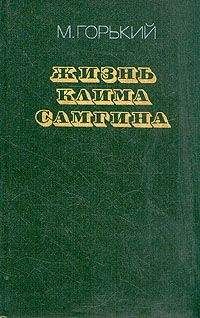Максим Горький - Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе
Говорил он дергая пуговицы жилета, лацканы пиджака, как бы ощупываясь, и старался говорить смешно.
— Ведьма, на пятой минуте знакомства, строго спросила меня: «Что не делаете революцию, чего ждете?» И похвасталась, что муж у нее только в прошлом году вернулся из ссылки за седьмой год, прожил дома четыре месяца и скончался в одночасье, хоронила его большая тысяча рабочего народа. Часа два беседовала она со мной, я мычал разное, и казалось мне, что она меня изобьет, выгонит. Пришла Тося, она потемнела, стала как чугунная, а вообще — такая же, как была. Подруга — курчавая, носатая, должно быть — еврейка, интеллигентка. Вокруг них вращается на одной ноге ведьмин сын, весь — из костей, солдат, наступал, отступал, получил Георгия. Все — единодушны, намерены превратить просто войну в гражданскую войну, как заповедано в Циммервальде.
Он замолчал, раскачивая на золотой цепочке карманные часы. Самгин, подождав, спросил:
— Что же говорит Тося?
— Вероятно, то, что думает. — Дронов сунул часы в карман жилета, руки — в карманы брюк. — Тебе хочется знать, как она со мной? С глазу на глаз она не удостоила побеседовать. Рекомендовала меня своим как-то так: человек не совсем плохой, но совершенно бестолковый. Это очень понравилось ведьмину сыну, он чуть не задохнулся от хохота.
И, мигая в попытках остановить блуждающие глаза на лице Самгина, он заговорил тише:
— Кажется, ей жалко было меня, а мне — ее. Худые башмаки… У нее замечательно красивая ступня, пальчики эдакие аккуратные… каждый по-своему — молодец. И вся она — красивая, эх как! Будь кокоткой — нажила бы сотни тысяч, — неожиданно заключил он и даже сам, должно быть, удивился, — как это он сказал такую дрянь? Он посмотрел на Самгина, открыв рот, но Клим Иванович, нахмурясь, спросил:
— Алину Телепневу помнишь? Тоже красавица…
— Да. Где она?
— Не знаю. Была кокоткой, служила у Омона, сошлась с одним богатым… уродом, он застрелился…
— Чорт знает как это все, — пробормотал Дронов, крепко поглаживая выцветшие рыжие волосы на черепе. — Помню — нянька рассказывала жития разных преподобных отшельниц, великомучениц, они уходили из богатых семей, от любимых мужей, детей, потом римляне мучили их, травили зверями…
Клим Иванович Самгин вспомнил рассказанную ему отцом библейскую легенду о жертвоприношении Авраама, вспомнил себя дон-Кихотом, а Дронова — Санчо и докторально сказал:
— Всегда были — и будут — люди, которые, чувствуя себя неспособными сопротивляться насилию над их внутренним миром, — сами идут встречу судьбе своей, сами отдают себя в жертву. Это имеет свой термин — мазохизм, и это создает садистов, людей, которым страдание других — приятно. В грубой схеме садисты и мазохисты — два основных типа людей.
Он замолчал, чувствуя, что сказанное двусмысленно и отводит его, Самгина, куда-то в сторону от самого себя. Но он тотчас же нашел выход к себе:
— Поставим вопрос: кто больше страдает? Разумеется, тот, кто страдает сильнее. Байрон, конечно, страдал глубже, сильнее, чем ткачи, в защиту которых он выступал в парламенте. Так же и Гауптман, когда он писал драму о ткачах.
Прихлебывая кофе, он продолжал:
— Необходимо различать жертвенность и героизм. Римлянин Курций прыгнул в пропасть, которая разверзлась среди Рима, — это наиболее прославленный акт героизма и совершенно оправданный акт самоубийства. Ничто не мешает мне думать, что Курция толкнул в пропасть страх, вызванный ощущением неизбежной гибели. Его могло бросить в пропасть и тщеславное желание погибнуть первому из римлян и брезгливое нежелание погибать вместе с толпой рабов.
— Н-да, — скучно сказал Дронов, — иной раз очень хочется прыгнуть куда-то…
«Ничего не понял», — с негодованием подумал Клим Иванович и осудительно сказал:
— Ты, кажется, уже излишне много прыгаешь и бегаешь.
Дронов, застегивая пуговицы пиджака, пробормотал уходя:
— В детстве — не доиграл. Благородные дети не принимали меня в свои игры. Вот и доигрываю…
«Что это он — обиделся?» — подумал Самгин и тотчас забыл о нем, как забывают о слуге, если он умело исполняет свои обязанности. Дронов существовал для него только в те часы, когда являлся пред ним и рассказывал о многообразных своих делах, о том, что выгодно купил и перепродал партию холста или книжной бумаги, он вообще покупал, продавал, а также устроил вместе с Ногайцевым в каком-то мрачном подвале театрик «сатиры и юмора», — заглянув в этот театр, Самгин убедился, что юмор сведен был к случаю с одним нотариусом, который на глазах своей жены обнаружил в портфеле у себя панталоны какой-то дамы. Театр, не просуществовав месяца, превратился в кафе-шантан. Самгин спросил Дронова:
— Что же — потерял ты на этом?
— Нет, — Ногайцев потерял. Это не первый раз он теряет. Он глуп и жаден, мне хочется разорить его, чтоб он, собачий сын, в кондуктора трамвая или в почтальоны пошел. Терпеть не могу толстовцев.
Дронов энергично и брезгливо потряс головой, а затем спросил:
— Тебе денег не надо?
— Зачем?
— Вообще. У меня много накопилось. Денег скоро много будет, хотят выпустить на миллиард или на два…
В деньгах Клим Самгин не нуждался, но очень ценил Дронова как осведомителя. Растрепанный, невыспавшийся, с воспаленными глазами, он являлся по утрам и сообщал:
— Вожаки прогрессивного блока разговаривают с «черной сотней», с «союзниками» о дворцовом перевороте, хотят царя Николая заменить другим. Враги становятся друзьями! Ты как думаешь об этом?
— Я в это не верю, — сказал Самгин, избрав самый простой ответ, но он знал, что все слухи, которые приносит Дронов, обычно оправдываются, — о переговорах министра внутренних дел Протопопова с представителем Германии о сепаратном мире Иван сообщил раньше, чем об этом заговорила Дума и пресса.
— Откуда ты знаешь это? — спросил он. Дронов, приподняв плечи к оттопыренным ушам своим, небрежно сказал:
— Дамы. Они мало понимают, но — им все известно.
Клим Иванович Самгин жил скучновато, но с каждым [днем] определеннее чувствовал, что уже скоро пред ним откроется широкая возможность другой жизни, более достойной его, человека исключительно своеобразного.
Недостаток продовольствия в городе принимал характер катастрофы, возбуждая рабочих, но в январе была арестована рабочая группа «Центрального военно-промышленного комитета», а выпущенная 6 февраля прокламация Петроградского комитета большевиков, призывавшая к забастовке и демонстрации на десятое число, в годовщину суда над социал-демократической фракцией Думы, — эта прокламация не имела успеха.
«Все идет правильно, работает логика истории, разрушая одно, укрепляя другое», — думал Клим Самгин.
Но 14 февраля, в день открытия Государственной думы, начались забастовки рабочих, а через десять дней — вспыхнула всеобщая забастовка и по улицам города бурно, как весенние воды реки, хлынули революционные демонстрации.
Клим Иванович Самгин мужественно ожидал и наблюдал. Не желая, чтоб темные волны демонстрантов, захлестнув его, всосали в свою густоту, он наблюдал издали, из-за углов. Не было смысла сливаться с этой грозно ревущей массой людей, — он очень хорошо помнил, каковы фигуры и лица рабочих, он достаточно много видел демонстраций в Москве, видел и здесь 9 января, в воскресенье, названное «кровавым».
Он смотрел, как мимо его течет стиснутая камнем глазастых стен бесконечная, необыкновенно плотная, серая, мохнатая толпа мужчин, женщин, подростков, и слышал стройное пение:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов…
— Хлеба! Хлеба! — гулко кричали высокие голоса женщин. Иногда люди замедляли шаг, даже топтались на месте, преодолевая какие-то препятствия на пути своем, раздавался резкий свист, крики:
— Что там? Долой! Товарищи — смело!
Это будет последний
И решительный бой…
Хор был велик, пел непрерывно. Самгин отметил, что, пожалуй, впервые демонстранты поют так стройно, согласно и так бесстрашно открывается имя грозный смысл рабочего гимна. В пятом году, 9 января, не пели. Вероятно, и не могли бы петь вот так. Однако не исключена возможность, что это Воскресенье будет повторено… Не исключена. От плоти демонстрантов отрывались, отскакивали отдельные куски, фигуры, смущенно усмехаясь или угрюмо хмурясь, шли мимо Самгина, но навстречу им бежали, вливались в массу десятки новых людей.
Самгин посматривал на тусклые стекла, но не видел за ними ничего, кроме сизоватого тумана и каких-то бесформенных пятен в нем Наконец толпа исчезала, и было видно, как гладко притоптан ею снег на мостовой.