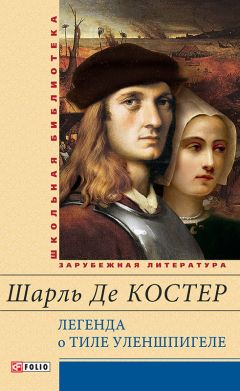Джейн Остен - Гордость и предубеждение
– Так вот, значит, какое у вас обо мне представление! – гневно вспылил он, шагнув в ее сторону. – Вот что вы обо мне думаете! Благодарю вас, что изложили мне все столь полно. Мои грехи, судя по вашим словам, достойны самых страшных наказаний. Но, возможно, – вдруг добавил он, резко остановившись и повернувшись к ней, – их можно было бы пересмотреть, кабы не ваша гордость, уязвленная тем, что я упомянул о собственных сомнениях в принятии весьма серьезного решения. Горькие ваши обвинения могли бы быть забыты, слукавь я в своем признании, обмани я вас относительно присутствия в моем сердце слепой и безраздельной страсти, не позволявшей мне усомниться в выборе ни на секунду. За честность я получил отвращение. Но даже сейчас я не стыжусь своих прежних сомнений. Они были лишь естественны и справедливы. Неужто вы, и впрямь могли бы полагать, что простота ваших связей может служить мне стимулом? Мог ли я радоваться тому, что породнюсь с людьми, много ниже стоящими меня в обществе?
Гнев Элизабет нарастал, отзываясь в висках стуком копыт взбешенной пары лошадей. Призвав на помощь все свои силы, она постаралась говорить как можно спокойней.
– Вы ошибаетесь, мистер Дарси, если полагаете, будто форма вашего признания смертельно меня оскорбила, а не дала лишний повод к отказу просто вследствие того, что вы не старались вести себя так, как это подобает джентльмену.
Она видела, как при этих словах он вздрогнул; но, поскольку молодой человек так ничего и не возразил, мисс Беннет продолжала:
– Но какой бы способ оглашения своего предложения вы ни избрали, у вас не было ни единого шанса получить мое согласие.
И снова страшное его удивление, молчание, смертельно усталый взгляд.
– С первого же дня, с первого момента нашего знакомства манеры ваши, полные надменности, ваше презрение, черствость к другим были так велики, что составили львиную долю нынешнего моего мнения о вас; они стали фундаментом, на котором быстро выросло гранитное, железное и непоколебимое отвращение. Я не знала вас еще и месяца, когда была уже уверена в том, что вы последний в этом мире мужчина, за которого я соглашусь выйти замуж.
– Вы достаточно уже сказали, мадам. Я вполне понимаю ваши чувства, и теперь мне остается лишь устыдиться моих. Простите меня за то, что отнял у вас столько времени, и примите мои лучшие пожелания счастья и здравия.
С этими словами он быстро покинул комнату, и в следующее мгновение она уже слышала его беглые шаги на лестнице и хлопок входной двери.
Смятение ума заставило Элизабет тяжело упасть в кресло и горько проплакать в нем долгих полчаса. Изумление ее, когда она вспоминала о том, что только что случилось, усиливалось с каждой новой минутой. Время сделало невероятным то, что менее часа назад вызывало шквал страстей, гром и бешеные молнии. Она получила предложение от самого мистера Дарси! Он влюблен в нее вот уже несколько месяцев. Он так ее любит, что готов жениться, несмотря на все препятствия, заставившие его принять самое деятельной участие в разлуке мистера Бингли с ее же родной сестрой; препятствия, которые оставались неизменными, когда речь шла о членах одной и той же семьи! Все это казалось невероятным. Элизабет, разумеется, льстило, что именно она разбудила такую любовь; но гордыня мистера Дарси, всепоглощающая его гордыня, бесстыдное подтверждение собственных злодеяний, направленных против Джейн, непростительная манера упоминания страданий мистера Уикема, жестокость, которую он не пытался отрицать, – все это уже через несколько минут потопило тот робкий проблеск сочувствия к отвергнутому влюбленному, что вспыхнул на мгновение в ее сердце.
Элизабет долго сидела в кресле, погрузившись в невеселые свои думы, пока под окном не послышался шум экипажа леди Кэтрин. Заметив его приближение, она поспешила к себе в комнату.
Глава 35
На следующее утро Элизабет проснулась с теми же мыслями в голове, что не давали ей покоя, когда глаза ее закрывались накануне вечером. Она все еще не отошла от удивления по поводу тех странных событий, что взбудоражили ее прошлым днем, и не могла думать больше ни о чем. Все валилось у нее из рук, а потому вскоре после завтрака она решила, что в таком состоянии разумней всего будет прогуляться на свежем воздухе. Элизабет прямиком направилась к излюбленному своему уголку парка, как вдруг остановилась посреди дороги, неожиданно вспомнив о том, что мистер Дарси тоже иногда там бывает, и поэтому, вместо того чтобы углубиться в рощу, она свернула на аллею, уводившую прочь от главной дороги. Парковая ограда все еще шла по правую сторону, но вскоре закончилась небольшой калиткой. Два или три раза повторив свой путь, Элизабет, искушаемая прекрасным утром, все же остановилась перед воротами и заглянула в парк. За те пять недель, что она провела уже в Кенте, облик его неузнаваемо изменился, и с каждым новым днем зелени на нежных и тонких ветках все прибывало. Элизабет собралась было снова повернуть обратно, когда неожиданно в перелеске, граничившем с парком, заметила фигуру джентльмена, мелькнувшую сквозь буйство кустарников и деревцев. Мужчина решительно приближался; и, испугавшись, что это может быть только мистер Дарси, она немедленно отвернулась и торопливо зашагала прочь. Однако шаг незнакомца оказался гораздо шире ее собственного, и вскоре он заметил барышню, прибавил ходу и окликнул ее по имени. Элизабет, свернувшая уже в сторону, услышала этот голос, принадлежавший, несомненно, мистеру Дарси, и против собственного желания снова направилась к калитке. Тот ее уже поджидал и протянул ей письмо, которое она инстинктивно взяла, после чего он надменно произнес:
– Я уже давно гуляю по лесу в надежде встретиться с вами. Вы окажете мне честь, прочтя это письмо?
С легким поклоном он быстро отвернулся, зашагал в сторону рощи и скоро исчез из виду.
Не ожидая от чтения особого удовольствия, но все же снедаемая сильнейшим любопытством, Элизабет вскрыла письмо и, к огромному своему удивлению, достала из конверта два листа писчей бумаги, испещренные мелким убористым почерком. Продолжая свой путь вдоль аллеи, мисс Беннет начала читать. В самом верху листа стояло «Восемь часов этого утра, Розингс».
«Не смущайтесь, мадам, приступая к моему письму: в нем нет повтора тех чувств и предложений, что вызвали в вас так много отвращения накануне. Я пишу вам безо всякого желания продлить страдание и гнев и не обманываю себя, питая бесплодные надежды на наше с вами счастье рядом друг с другом. Сказанное обоими вчера забудется, боюсь, нескоро. Сама попытка сесть за это письмо, с точки зрения благоразумия, должна была быть отвергнута и оставлена, если бы не моя совесть, которая требует, чтобы строки, лежащие перед вами, были написаны и прочитаны. А посему простите мне вольность настаивать на вашем внимании. От вашего сердца я пощады не жду, но взываю к справедливости и доле сочувствия.
Два обвинения разного свойства и уж совершенно различной тяжести швырнули вы мне вчера в лицо. Первое относилось к моей роли в разлуке (давайте ненадолго оставим в стороне наши с вами чувства!) мистера Бингли с вашей сестрой; второе касалось того, что, вопреки справедливым требованиям, вопреки чести и человечности, я разорил мистера Уикема и разрушил все его ожидания и надежды, связанные с получением наследства, то есть намеренно и осознанно выкинул из сердца друга юности, любимца своего отца, которому, кроме как на наше покровительство, надеяться было не на что, который вырос в расчете на наше милосердие и жестокая судьба которого не идет по тяжести обвинения ни в какое сравнение с разлукой Бингли и мисс Беннет, последствия коей – вопрос лишь нескольких недель или месяцев. Однако отныне я надеюсь на то, что обвинения ваши по этому поводу, брошенные мне столь легко и жестоко, будут с меня сняты, когда вы узнаете истинные причины моего поступка. Если во время изложения я по необходимости допущу упоминание чувств, оскорбительных вашему сердцу, мне остается только заранее попросить у вас прощения. Я не в силах противиться необходимости, а затяжные извинения превратят мою исповедь в глупость.
Я недолго прожил в Хертфордшире, когда заметил вместе с остальным моим окружением, что Бингли при всем обилии хорошеньких юных леди в тех местах отдает явное свое предпочтение вашей сестре. Но до самого рокового вечера, когда он устроил бал в своем доме, я не придавал его вниманию к ней сколько-нибудь серьезного значения – мне и раньше доводилось становиться свидетелем многочисленных его влюбленностей. Но на том балу, когда я имел честь танцевать с вами, я впервые осознал из слов сэра Уильяма Лукаса, что повышенное внимание Бингли к вашей сестре породило всеобщее предположение о близости их помолвки. Он говорил об этом так решительно, что создавалось впечатление, будто осталось лишь узнать день, в который произойдет сие событие. С того самого момента я уже не спускал глаз со своего друга и вскоре заметил, что его привязанность к мисс Беннет значительно превосходит все, виденное мною раньше. Наблюдал я и за вашей сестрой. Ее взгляд и манеры казались открытыми и приветливыми и не отличались от тех, что я замечал в ней и раньше, но я не нашел в них даже тени той страсти, что в друге была мне столь очевидна. Домыслы сэра Уильяма я списал тогда на обычные бальные сплетни, утвердившись в мыслях о том, что, хотя сестра ваша и принимает любезности Бингли весьма благосклонно, она все же ни в коей мере не поощряет развитие более тесной связи и более страстных чувств. Если бы вы тогда не допустили ошибку, нынче заблуждался бы я; и, учитывая то, что свою сестру вы знаете так хорошо, как никто другой, такое предположение обретает вполне реальный шанс превратиться в уверенность; и тогда отказ ваш не был бы так проникнут жестокостью, потому что я, скорее всего, пребывал бы в полном неведении всей подоплеки того, что случилось бы, не распорядись судьба иначе. Но я не стану углубляться в мысли о том, что безмятежность и спокойствие вашей сестры были таковы, что даже самый придирчивый наблюдатель убедился бы в том, что, как ни очарователен ее характер, как она ни мила, сердце ее разбудить весьма нелегко. Признаюсь вам откровенно: сам я страстно желал поверить в ее равнодушие. Однако сразу же признаюсь и в том, что обычно на решения мои не в силах повлиять ни страхи, ни надежды, ни желания; и я не верил в ее равнодушие, потому что сам этого хотел, сам верил тому, чего не было, в необъяснимом и неразумном порыве. Возражения мои против их союза тогда уже не ограничивались теми, что вчера вечером прозвучали у вас в гостиной, когда я, оставив в стороне чувства, поведал вам о собственных моих сомнениях – нужда в связях стала бы одинаковым злом как для Бингли, так и для меня. Для того, чтобы назвать их брак мезальянсом, были и другие причины; причины, которые остаются актуальными и по сию пору и на которые я решился закрыть глаза, потому что в тот момент меня лично они не касались. Считаю необходимым хотя бы вкратце изложить вам все то, что смутило и огорчило меня тогда. Положение вашей семьи, – бесспорно, далеко не блестящее, – не шло ни в какое сравнение с общей жаждой наживы, постоянно вылезавшей на поверхность и выдававшей свое присутствие как в речах ваших младших сестер, так и в словах вашей матери и даже отца. Простите меня. Мне действительно больно говорить вам об этих вещах. Но оставим в стороне просчеты вашей родни и неудовольствие, вызванное моими словами о ней, и попробуем найти что-нибудь способное вас утешить. К глубочайшей моей радости, вы во всей этой неприглядной истории ни единым словом не вызвали моего негодования, в полной мере обрушившегося на голову вашей старшей сестры. Мне остается только уверить вас, что именно в тот вечер я окончательно утвердился в своих выводах о роли каждого в представшей предо мной комедии и именно тогда я окончательно счел своим долгом уберечь друга от связи, грозившей вылиться в крайне нежелательный брак.