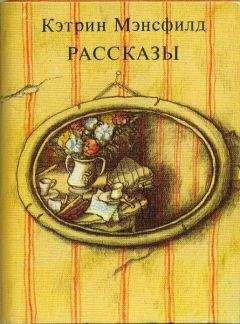Кэтрин Мэнсфилд - Медовый месяц: Рассказы
«Благотворительный концерт в пользу больных детей католического вероисповедания состоится в салоне в половине девятого вечера. Участвуют: фрейлейн Соня Годовска, венская актриса; герр Профессор Виндберг (тромбон); фрау Оберлерер Вейдель и другие».
Это объявление висело на печальной голове оленя в столовой и украшало ее, как прежде красно-белое меню, возле которого герр Профессор неизменно кланялся и говорил: «Приятного аппетита», — так что нам это, наконец, надоело, и мы предоставили улыбаться официанту, в конце концов, ему деньги платят за ублажение гостей.
В назначенный день замужние дамы шествовали по пансиону, одетые как обитые тканью стулья, а незамужние дамы — как обитые муслином туалетные столики. Фрау Годовска приколола одну розу к своему ридикюлю, а другую — к белой вставке, лежавшей на груди, словно салфетка на спинке кресла. На мужчинах были черные фраки и белые шелковые галстуки, и папоротниковидные бутоньерки щекотали им подбородки.
Пол в салоне был натерт, стулья и скамейки расставлены, повешена гирлянда из флажков, которые неуемно прыгали и крутились на сквозняке, как возбужденные дети в банный день. Мне определили место рядом с фрау Годовска, и предполагалось, что герр Профессор и Соня присоединятся к нам после окончания концерта.
— Вы почувствуете себя одной из выступающих, — благодушно сказал мне герр Профессор. Жаль, что англичане такой немузыкальный народ. Ничего! Сегодня вы услышите кое-что особенное оказывается, у нас тут гнездо талантов.
— Что вы собираетесь читать, фрейлейн Соня?
Она откинула назад волосы.
— Этого я никогда не знаю до последнего момента. Выхожу на сцену, жду несколько мгновений, и появляется такое чувство, будто меня ударили тут. — Она поднесла руку к броши на горле. — И… начинают литься слова!
— Соня, наклонись, — прошептала ее мать. — Дорогая, у тебя сзади на юбке видна булавка. Давай я выйду вместе с тобой и переколю ее, или ты сама справишься?
— Ах, мама, что ты говоришь? — Соня очень рассердилась и вспыхнула. — Ты же знаешь, как я в такие моменты чувствительна к любым неприятным впечатлениям… Пусть уж лучше юбка упадет, чем…
— Соня, душечка!
Тут раздался звонок.
Вошел официант и поднял крышку рояля. Не избежав общего волнения, он забылся и грязной салфеткой, которая как обычно висела у него на руке, стряхнул пыль с клавиш. На возвышение легко поднялась фрау Оберлерер в сопровождении очень молодого джентльмена, который дважды высморкался, прежде чем швырнул платок внутрь рояля.
О, знаю, ты меня не любишь
И ско…о, ско…о позабудешь,
Коль нет любви, нет ничего.
Так пела фрау Оберлерер голосом, который, казалось, исходил из завалившегося куда-то наперстка и не имел ничего общего с нею.
— Ах, как мило, как тонко, — восклицали мы под утешительные аплодисменты. Фрау Оберлерер поклонилась нам, словно говоря: «Неужели?» — и удалилась в сопровождении молодого джентльмена, который ловко избегал шлейфа ее платья, не наступая на него, и хмурился.
Рояль закрыли, и посреди сцены было поставлено кресло. К нему медленно подошла фрейлейн Соня. Воцарилась мертвая тишина. Потом, очевидно, крылатая стрела пронзила брошь на горле, и фрейлейн стала уговаривать нас не ходить в лес в платьях со шлейфом, а одеться по возможности легко и возлечь вместе с нею на сосновых иголках. Ее громкий, немного хриплый голос заполнил салон. Уронив руки на спинку кресла, она двигала лишь тонкими запястьями. Мы молчали как завороженные. Сидевший рядом со мной герр Профессор был необычно серьезен, таращил глаза и крутил кончики усов. Фрау Годовска приняла вид гордой мамаши. Единственный, кто остался равнодушен к чарам актрисы, — это официант, который стоял, прислонившись к стене, и чистил ногти уголком программки. Он был «не на работе» и всячески демонстрировал это.
— Что я говорил? — вскричал герр Профессор, заглушаемый громом аплодисментов. — Вот это темперамент! Слышали? Она — огонь в сердце лилии. Я знаю, что должен хорошо сыграть. Теперь мой черед. Она вдохновила меня. Фрейлейн Соня, — сказал он, когда она, бледная и кутающаяся в большую шаль, подошла к нам, — вы само вдохновение. Сегодня я буду душой моего тромбона. Только не уходите.
Справа и слева к фрейлейн Соне тянулись люди и шептали ей в шею комплименты. В ответ она по-королевски величественно кивала головой.
— Мой успех неизменен, — сказала мне фрейлейн Соня. — Понимаете, когда я на сцене, я существую. В Вене мы играли Ибсена, и у нас всегда было столько цветов, что три букета мы ставили в кухне. А здесь совсем нет магии. Чувствуете? Совсем нет волшебного аромата, который почти видим и плывет от венских зрителей к нам. У меня душа умирает без этого. — Она подалась вперед и уперлась кулачком в подбородок. — Умирает, — повторила она.
Появился Профессор с тромбоном, дунул в него, поднес к глазам, потом поправил манжеты рубашки и утонул во взгляде фрейлейн Сони. Он произвел такое впечатление, что его заставили исполнить баварский танец, который, как пояснил герр Профессор, надо воспринимать скорее как дыхательное упражнение, чем как произведение искусства. Фрау Годовска отбивала веером ритм.
Потом выступал совсем юный джентльмен, пропевший тенором о любви к даме, из-за которой у него «пылает сердце» и которая доставляет ему «неземные муки». Фрейлейн Соня разыграла сцену отравления с помощью матушкиного пузырька с пилюлями и шезлонга, заменившего кресло; маленькая девочка пропиликала колыбельную на детской скрипочке; герр Профессор принес последнюю жертву на алтарь больных детей, сыграв государственный гимн.
— Мне пора уложить маму в постель, — прошептала фрейлейн Соня. — А потом я должна погулять. Мне необходимо хотя бы на мгновение дать волю своей душе. Не хотите ли пройтись до вокзала и обратно?
— С удовольствием. Стукните в мою дверь, когда пойдете.
Вот так современная женщина и я оказались вместе под звездами.
— Какая ночь! — воскликнула она. — Вы знаете стихотворение Сапфо о том, как она руками дотягивается до звезд?.. Я очень похожа на Сапфо. И знаете, что примечательно? Я похожа не только на Сапфо. Во всех сочинениях величайших писателей, особенно в неизданных письмах, я обнаруживаю нечто близкое мне — сходство, часть себя, тысячи отражений моих рук в темном зеркале.
— Ужасно!
— Не понимаю, что вы имели в виду, сказав «ужасно»; для меня это проклятие таланта… — Она вдруг умолкла и пристально посмотрела на меня. — Вам известна моя трагедия?
Я отрицательно покачала головой.
— Моя трагедия — это моя мать. Живя подле нее, я живу подле гроба с моими неродившимися желаниями. Вы слышали, как она сегодня сказала о булавке? Для вас, может быть, это чепуха, но из-за этого у меня не получились первые три жеста. Они…
— Оказались наколотыми на булавку? — предположила я.
— Правильно. Когда мы в Вене, я, знаете ли, становлюсь жертвой настроений. Мне хочется чего-то необычного, из ряда вон выходящего. А мама говорит: «Пожалуйста, сначала дай мне микстуру». Однажды, помнится, я рассвирепела и выбросила кувшин для умывания в окно. Знаете, что она сказала? «Соня, не стоит кидать в окно вещи, разве что ты…»
— Возьмешь что-нибудь поменьше? — попробовала угадать я.
— Нет… «Сначала сообщишь мне об этом». Это же унизительно! И я не вижу никакого просвета.
— Почему бы вам не присоединиться к какой-нибудь труппе, отправляющейся в турне, и не оставить мать в Вене?
— Как? Оставить мою несчастную, беспомощную, больную, одинокую мамочку в Вене? Ни за что! Лучше утопиться. Я люблю мамочку больше всех на свете — всех и всего! Думаете, нельзя любить свою трагедию? «Песни скромные мои родом из больших печалей». Это Гейне, а, может быть, и я сама.
— Ничего, ничего, — веселым голосом проговорила я.
— Что значит «ничего»?
Я предложила вернуться в пансион, и мы зашагали обратно.
— Иногда мне кажется, что выходом могло бы стать замужество, — сказала фрейлейн Соня. — Если бы я могла найти простого хорошего человека, который полюбил бы меня и стал бы заботиться о маме, который был бы для меня подушкой — гений ведь не может рассчитывать на ровню — я бы вышла за него замуж… Вы заметили, что герр Профессор оказывает мне внимание?
— Ах, фрейлейн Соня, — отозвалась я, очень довольная собой, — почему бы не женить его на вашей матери?
В этот момент мы проходили мимо парикмахерской. Фрейлейн Соня вцепилась мне в руку.
— Вы, вы, — задыхаясь, проговорила она. — Это жестоко. Я сейчас лишусь чувств. Чтобы мама вышла замуж раньше меня — это оскорбительно. Я падаю сейчас и здесь.
Мне стало страшно.
— Не надо, — попросила я, встряхнув ее. — Давайте вернемся в пансион, а там уж сколько угодно падайте без чувств. Здесь нельзя. Все закрыто. Нет ни одного человека. Пожалуйста, не делайте глупостей.