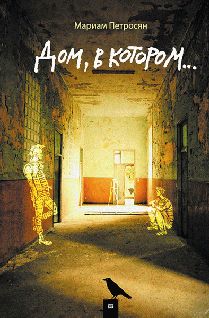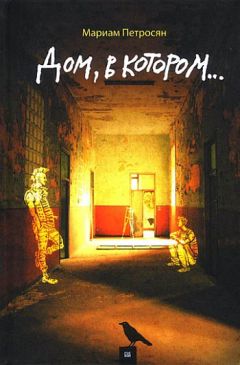Мариам Петросян - Дом, в котором...
Колясники сумрачно разглядывали Вонючку.
Вонючка сиял и свинячил вокруг своей тарелки.
Возвращаясь из столовой, Кузнечик остановился у щита с объявлениями. «Разлученные». Вечерний сеанс. 2 серии. Значит, в десятой вечером никого, кроме Седого, не будет. Кузнечик побежал догонять своих.
Вонючка попросил разрешения нарисовать что-нибудь на стене. Волк вытащил банки с краской и выделил ему угол. Вонючка рисовал долго. Карандашом, потом гуашью — до самого обеда его не было слышно, только из рисовального угла доносились вздохи и шуршание, свидетельствовавшие о муках творчества.
Волк раздобыл у кого-то самоучитель игры на гитаре. Он читал его очень внимательно, но Кузнечику показалось, что у него не выходит сосредоточиться. Красавица разжился апельсином и сидел с ним перед соковыжималкой, не решаясь ее включить. Кузнечик и Горбач установили на тумбочке печатную машинку — еще один дар ящика, которым никто, кроме Кузнечика не заинтересовался. Кузнечик сразу понял, что машинка нужна ему. Попасть пальцем протеза по клавише с буквой намного легче, чем эту же букву нарисовать так, чтобы кто-то смог догадаться, что именно за буква имелась в виду. Ручки выскальзывали из искусственных пальцев, буквы получались корявыми и рваными. Поэтому, увидев машинку, Кузнечик обрадовался и попросил поставить ее на свою тумбочку. Пока Горбач заправлял в нее листы бумаги и печатал на них все подряд, он представлял, какое письмо напишет Рыжей и Смерти, и как опустит его в лазаретный ящик — специальный ящик для писем, висевший возле лазаретной двери. В Хламовнике шумели намного громче обычного.
— Может, готовятся на нас напасть? — сказал Горбач.
— А может, нападают друг на друга? — предположил Кузнечик.
Горбач отстукал слово нападение.
— А может, это рушится империя Спортсмена, — сказал Волк. — И сейчас в нас полетят ее осколки.
В дверь кто-то тихо поскребся.
— Ну вот, — сказал Волк. — Что я говорил? Уже летят.
Красавица испуганно спрятал апельсин за спину.
— Или все же за ящиком пришли, — сказал Слепой.
Но это был Фокусник. Грустный Фокусник в полосатой рубашке, с костылем под мышкой и бельевым мешком.
— Здравствуйте, — сказал он. — Можно войти? — Он был похож на человека, сбежавшего от беды.
— Там что, и правда, что-то рухнуло? — испугался Горбач.
— Тебя отпустили? — удивился Кузнечик. — Я думал, не отпустят.
— Там два новичка сразу прибыло, — застенчиво объяснил Фокусник. — Я собрался — и сразу сюда. Им теперь не до меня, а я давно хотел к вам. Можно мне остаться? — он покосился на стену и быстро отвел глаза.
— А что-нибудь полезное ты принес? — поинтересовался Вонючка.
— Он умеет фокусы показывать, — быстро сказал Кузнечик, краснея за Вонючку. — С платком и с картами. И с чем угодно.
— Проходи, — сказал Волк. — Выбирай кровать. А что за новички?
Фокусник, постукивая костылем, прошел к свободной кровати и положил на нее вещи.
— Один нормальный, — сказал он. — А второй страшный. С родинкой. Как будто шоколадом облили. Почти все лицо, — Фокусник прикрыл ладонью лицо. — Ой, гитара! — ахнул он, опуская руку и впиваясь взглядом в гитару на подушке Волка. — Откуда?
— Умеешь? — живо спросил Волк.
Фокусник кивнул. Он смотрел только на гитару.
— Повезло, — обрадовался Волк. — А то я уж боялся, что свихнусь над этим самоучителем. Давай, сыграй что-нибудь.
Фокусник простучал к кровати. Волк уступил ему место.
Устраиваясь с гитарой, Фокусник деловито откашлялся, как будто собирался петь. — «Вкус меда», — объявил он. Кузнечику сразу вспомнилось, что и фокусы свои он объявлял специальным, не своим голосом. Фокусник заиграл и, действительно, запел, хотя петь его никто не просил, но ему должно быть хотелось показать все свои таланты сразу. Голос у него был тонкий и пронзительный, играл он уверенно и пел тоже. Видно было, что он по настоящему умеет играть и петь, и не стесняется своего голоса. Вокруг него собрались все, кроме Вонючки, который продолжал рисовать.
— И я вернусь к меду и к тебе, — выводил Фокусник трагичным фальцетом, раскачиваясь над гитарой и сам себе подпевал, — турум-турум, — встряхивал волосами и отрешенно смотрел в стену. В конце песни голос его совсем охрип, а глаза увлажнились. Следующую песню он только играл и даже объявлять ее не стал. Третью песню он назвал «Танго Смерти» и на ней в первый раз сбился. Кузнечику от песен Фокусника стало грустно, остальным, как ему показалось, тоже.
— Еще я на скрипке умею, — сказал Фокусник, разделавшись с «Танго Смерти». — И на трубе. И на аккордеоне. Немножко.
— Когда только успел? — удивился Волк.
Фокусник скромно потренькал струной. — Да вот так. Успел.
Самодовольство вдруг исчезло с его лисьего личика, оно жалобно скривилось, и Фокусник отвернулся.
«Вспомнил, что-то наружное», — подумал Кузнечик. — «Что-то хорошее». Ему стало жалко Фокусника и он попросил:
— Покажи фокус с платком. Тот твой, самый лучший.
Фокусник зашарил по карманам.
— Не всегда получается, — предупредил он. — Мало тренируюсь.
Вонючка отъехал от стены и с интересом уставился на Фокусника. За его спиной, в отведенном ему углу, открылось что-то страшное с вывороченными ноздрями, пупырчатое и пучеглазое. Все сразу увидели это «что-то» и забыли про фокусы.
Фокусник перестал искать платок.
— Это кто? — спросил Волк в ужасе. — Ты кого нарисовал?
— Гоблина, — радостно сообщил Вонючка. — В натуральную величину. — Правда, хорошенький?
— Да, — сказал Горбач. — Прямо хоть завешивай.
Вонючка счел это комплиментом. — Нет, правда? — спросил он. — Кровь стынет?
— Точно, стынет, — согласился Горбач. — А еще сильнее остынет, если забрести в тот угол ночью с фонариком.
Вонючка захихикал.
— Покажи, как делать сок, — попросил его Красавица, протягивая апельсин. Вонючка схватил его и быстро очистил. Разделил на дольки и, давясь ими, объяснил оторопевшему Красавице:
— Мало тут для сока. Лучше просто так съесть. — Он великодушно протянул Красавице одну мокрую, раздавленную дольку. — Ешь, это полезно. Куча витамина С.
КУРИЛЬЩИК
Тишина. Запах пыли и сырости. Вот что такое Перекресток ночью. Я сидел возле кадки, в которой росло что-то обглоданное и пересохшее, трогал этот скелет растения и читал надписи покрывавшие кадку сверху донизу. Кабан, Тополь, Гвоздь… все клички незнакомые. Буквы почернели и выглядели, как полустертый орнамент. Но кое-что можно было разобрать.
Перекресток освещался двумя настенными лампами. Одна — с бордовым абажуром — освещала угол с телевизором. Вторая — с треснувшим синим плафоном — низенькое продавленное кресло у противоположной стены. А вся центральная часть — с диваном, полузасохшими растениями и мной — тонула в полумраке. Поэтому читал я почти на ощупь, воображая себя Слепым. Иногда с помощью зажигалки. Довольно бессмысленное занятие. Но лучше, чем ничего.
«Кистеперые рыбы вымерли не совсем», — озадачила меня очередная надпись. Сразу после нее некий Завр сообщал: «Ухожу тропой койотов». Куда не уточнил. Наверное, тоже вымирать. Ниже было стихотворение. Посвященное девушке. «Твоим рукам, твоим ногам, тарап-парам-парам-парам…» Стихотворение удивило меня сильнее, чем незнакомые клички. Жутко корявое, оно было посвящено какой-то конкретной девушке. Иначе автор не упоминал бы «дивные, пегие косы». Я не совсем понял, что значит «пегие», но это явно был не тот цвет, которым принято восхищаться.
Мы с девушками общались мало. Вернее, вообще не общались. Хотя их корпус соединялся с нашим общей лестницей, насколько я знал, к ним никто никогда не поднимался. В своем корпусе они жили на третьем этаже, который в нашем занимали воспитатели. На втором располагался лазарет, а что было на первом, я не знал. Наверное, таинственный бассейн на вечном ремонте. Мы с девушками сталкивались только в кинозале на субботних сеансах. Они сидели отдельно и в разговоры не вступали. Во дворе гуляли только по территории, примыкавшей к их крыльцу. Я не знал, кто установил такие строгие правила, но догадывался, что не дирекция. Иначе они бы нарушались. А они не нарушались.
В стихотворении говорилось о каких-то переданных пластинках. О книге: «…что ты уронила на голову мне, чуть поведя плечом…» Уронить книгу кому-нибудь на голову можно только в библиотеке, стоя на стремянке. А девушки общей библиотекой не пользовались.
Чем дольше я думал, тем становилось интереснее. Вспомнилась сценка, которую я наблюдал однажды во дворе примерно в первый месяц после поступления.
Красавица из третьей и девушка-колясница, чьей клички я не знал, играли в мяч. Это была самая странная игра на свете. Черноволосая, маленькая девушка с белым, будто фарфоровым личиком, бросала с крыльца теннисный мячик. Чуть погодя каким-то чудом (в роли неумелого чуда выступал Красавица), мячик залетал обратно на крыльцо. Правда, чаще Красавица его не добрасывал. Тогда девчонка съезжала вниз и отыскивала свою игрушку где-нибудь в кустах. За полчаса Красавица попал ей под ноги всего четыре раза, и то, по-моему, случайно, а она всякий раз улыбалась. Похоже было, что улыбается девушка собственным радостным мыслям, потому что ни она, ни Красавица друг на друга не смотрели. Только на мячик. Как будто он раз за разом возникал перед ними из потустороннего мира. Особенно хорошо это получалось у девушки. Красавица иногда сбивался и начинал отслеживать мячик на чужой территории, но она… можно было бы снять потрясающую короткометражку с ее участием: «Девочка и мяч. Игра с невидимкой». Меня заворожило это зрелище. Тогда я еще не знал, что наблюдаю за влюбленными и что эта игра — максимум того, что они могут себе позволить. Мне просто показалось, что они не очень хорошо знакомы и стесняются друг друга.