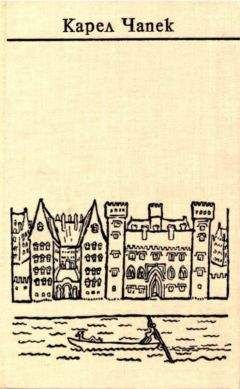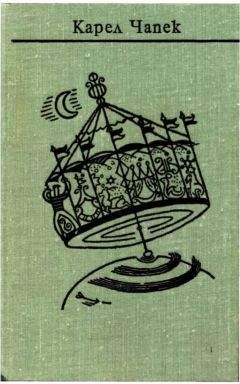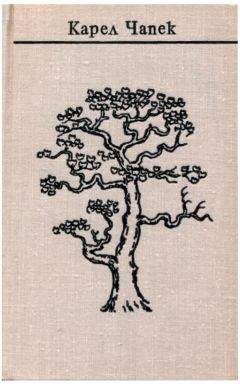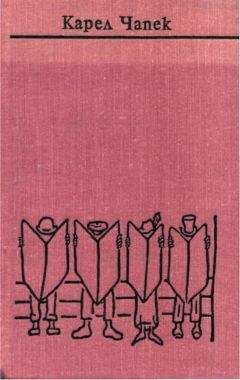Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 1. Рассказы
И вдруг услышал, ясно и раздельно: «Сколько получится, если тринадцать взять семь раз?» В испуге замерло сердце: это пан учитель. Сейчас он вызовет меня, сейчас, вот сейчас. Господи боже, куда бы спрятаться? Что предпринять? Дай мне уйти, господи! Позволь мне скрыться!
Внезапно грянул выстрел.
Меж тем Евишек, не разбирая дороги, плутал по холму. Прислушивался, но никогда мир не был столь безмолвен, столь замкнут в самом себе; от этого было больно и кружилась голова. Евишек брел дальше, ни о чем не думая, не ведая даже, где он.
Вдруг грянул выстрел. От горы к горе эхо летело словно сигнал тревоги, звуча все отдаленнее, тише, страшнее. Снова воцарилась тишина, еще более беспощадная, чем прежде. И только тогда Евишек осознал, что он тут один, совсем один, ничтожная песчинка, бесцельно затерявшаяся среди гор, что бредет он снова к дому, а из сердца через какую-то трещинку сочится озабоченность и стесненно струится безмерная печаль.
Пилбауэр продирался сквозь заросли кустарника, вода заливалась за шиворот, хлюпала в сапогах, проворно пробиралась, проникала, проскальзывала всюду, коварно и враждебно; Пилбауэр забыл о себе и, как баран, напролом пустился через чащу.
И вдруг грянул выстрел. Он грохнул прямо перед ним, на расстоянии нескольких шагов.
— Нужно все же смотреть, — загудел детектив, и вынужден был опереться на что-нибудь, чтобы не упасть; колени у него подломились. Это могло бы случиться уже сегодня — осознал он вдруг, — чуть-чуть не случилось! Уже теперь! Уже сегодня! Это уже могло бы случиться! Могло свершиться наконец!
Внезапно Славик увидел тень, которая вышагивала судорожно и автоматически, словно кукла. С трудом догадался, что это комиссар, и направился к нему.
— Послушайте! — торопливо проговорил он, — мне только что пришло в голову. Помните эти монограммы? Дело яснее ясного. Убитый был иностранцем.
Славику почудилось, что комиссар шепчет какие-то слова.
— Да, — продолжал он, — это, конечно, иностранец, человек, о котором никто не спросит. Иначе все лишено смысла. Его личность никогда не будет установлена, никто никогда его не хватится… И если убийца скроется, против него уже не будет никаких улик. Он не безумец. Он хорошо знал, что делает. Уничтожил жизнь, личность и имя человека. Наверное, важнее всего для него было уничтожить имя; о, конечно, самое страшное заключалось как раз в имени. В имени, которое, словно перст, указывало на убийцу. И даже если бы я никогда в жизни не дознался, что это за имя, — теперь мне уже все ясно.
— Да, да, — как во сне выдавил из себя комиссар, — однако… Сохранять дистанцию. Выровнять строй!
Евишек был уже дома; тихо, покойно шипит лампа над партитурой начатого квартета, где последний тон, необычайный, трепетный, словно жаворонок, прямо-таки молит о завершении.
Нерешительно и боязливо вчитывается Евишек в свою рукопись. Все тут как было: ликующая радость музыкальной фразы; певучая и непринужденная кантилена. Не изменилось ничего. Никто не может нарушить красоты и не может ее коснуться; ничто не дрогнуло, не померкло, не потускнело в волшебной и призрачной ткани тонов. Ничего, ровно ничего не произошло. И прежние сомнения остались. То там то сям чувствуется страх и неуклюжая, переменчивая робость, напряженность кружащейся танцовщицы, скрытая за деланной улыбкой…
Евишек задумался, припоминая мотив некоего высшего голоса, который звучал у него в душе, когда он шел в гору: громовые перекаты голоса, повелевающего на века.
Евишек замотал головой — нет, не то: этот некий голос звучит в самом тебе, он не повелевает. Он обращается к твоей боли.
Печальнее ночи рождение дня. Даль темна; внезапно, словно преодолевая напряжение кризиса, дрогнул воздух; чище становятся контуры, обнаженнее и строже делаются предметы. Мертвенно светят собственной белизной стены, краски блекнут, каждая вещь еще расплывчата, неотступна, и чем больше ты смотришь, тем больше все представляется нереальным. Светлеет восток; мир пробуждается при свете далеком и неверном; ты видишь все с удивительной ясностью, а все-таки это еще не свет… Люди просыпаются в жаркой духоте постели и вглядываются в грядущий день, который будет хуже и суровее минувшего.
На рассвете в дверь Евишека постучали. Маленький скрипач очнулся от полузабытья и в испуге побежал открывать. На пороге стояли Славик, комиссар и Пилбауэр.
— Куда вы подевались ночью? — закричал Славик. — Мы так беспокоились!
— Ну что, он скрылся? — прошептал Евишек.
— Скрылся, — уклончиво ответил Славик. — Сорвался со скалы и…
— Насмерть?
Славик кивнул.
— Насмерть. Лежит там, уткнувшись лицом в землю… прикрытый хвоей. Все кончено.
Евишек молча пошел развести огонь, чтобы сварить гостям кофе… «Все кончено», — твердил он, глядя на языки пламени; разбился насмерть, прикрыт хвоей. Пламя жгло глаза, и он, сняв очки, вытер слезы. Все кончено.
Славик тщился что-то доказывать комиссару насчет ясного случая. Евишек совсем не понимал его и не мог взять в толк, почему это он так оживлен. Трясущейся рукой Евишек тронул струну скрипки. Струна распелась, и Евишек отдернул руку, будто обжегся. Славик замолк на полуслове, комиссар вздрогнул, а Пилбауэр поднял свои припухшие веки.
— Простите, — прошептал Евишек.
— Это звучало как рыданье, — растерянно проговорил взволнованный Славик. — Грустная, в общем, история. Если бы я только знал…
В комнатке никто не шелохнулся. Славик до крови кусал губы.
— В нем было нечто необычное, — начал он опять, — это все чувствовали. На наших глазах он вырастал в сверхчеловека. Мне хотелось бы его понять, и поэтому, только поэтому я преследовал его. Эх, наверное, лучше не раскрывать тайны, чем… чем… — Славик помрачнел. — И теперь он мертв — затравили.
— По крайней мере… отмучился… — неожиданно отозвался Пилбауэр.
В комнатенке воцарилась гнетущая тишина. Евишек близорукими лазурно-голубыми глазами оглядывал своих гостей; видел неподвижно застывшего Пилбауэра, который, опустив веки, погрузился в раздумье и, казалось, о чем-то вспоминал; видел Славика, истязавшего себя упреками и угрызениями совести; видел комиссара, изнуренного, уставшего и сгибающегося под тяжестью скорби и слабости, будто малый ребенок. «Ведь вы могли бы с ним договориться — все вы! — думал Евишек. — Он был так несчастен и желал лишь спастись — как легко вы могли бы его понять!»
— Я говорил с ним, — робко обронил он. — В нем не было ничего загадочного.
Славик поднял удивленный взгляд.
— Как так не было?..
— Не было, — повторил Евишек, — ведь он жаловался, страшно жаловался на все.
— И вы его не боялись? — спросил комиссар, внезапно пробуждаясь.
— Нет. Если бы вы только слышали… Ах, как легко вы поняли бы друг друга!
Песнь любви (Лида, II)
После загадочного Лидиного бегства, когда девушка вновь вернулась в семью, у Мартинцев началась новая жизнь — не новая, конечно, отнюдь, она была похожа на что угодно, но только не на новую жизнь; новое несет в себе некое искупление, и даже самая горькая печаль становится побудительной причиной резкого движения вперед. Жизнь семьи Мартинцев не обновилась; просто все пришли к молчаливому согласию вести себя так, словно ничего не произошло. С той минуты, когда возвратившаяся домой Лида в ответ на первые вопросы матери разразилась душераздирающим плачем и после целой ночи сцен и упреков не вымолвила ни единого слова признания, никто больше не напоминал о случившемся. Осторожно обходили стороной все, что как-то касалось грустного происшествия; но именно эта «обходительность» всем слишком ясно давала знать: потрясение не забыто, хотя о нем и не говорится. От первого утреннего пожелания «доброго утра» до той минуты, когда Лида, прощаясь с матерью перед сном, целовала ей руку, дни тянулись однообразно-угрюмо и спокойно, но чем невозмутимее был этот покой на поверхности, тем явственнее чувствовалась тоска и глубинность молчания.
Все сделалось иным, совершенно иным; когда Лиде желали «доброго утра», это звучало чуть ли не робко, словно первый шаг на пути к сближению; когда же вечером Лида склонялась над материнской рукой, протянутой для поцелуя, она делала это с такой покорностью, с таким жалким и виноватым видом, что мать потихоньку отнимала руку движением, мучительным для обеих.
Исчезла былая естественность; все боялись что-либо изменить, хотя и желали страстно вернуться к прежней жизни. Им казалось, что любая внешняя перемена напомнит о страшной дате безжалостного Лидиного проступка, и жили по-старому, каждый про себя мучительно переживая изменения, коснувшиеся всего и вся.
Лида погрузилась в самоуничижение. Молча уклонялась от встреч с давними знакомыми и сидела дома, у матери на глазах. Письма свои отдавала читать матери, а получив их обратно нераспечатанными, откладывала в сторону не читая, — и все-таки среди возвращенных этих писем были два таких, которые привели ее в волнение. Казалось, она беззвучно благодарит мать и брата за молчание, за каждое оброненное слово, за любое незначительное поручение; она принимала все с выражением униженной покорности, даже беззащитности, словно любезности, которых она недостойна и которые терзают ее. И в самом деле — мать и брат уже ничего не делали без задней мысли: а вдруг именно это развлечет и заинтересует Лиду? Разговаривали они только ради Лиды, исподволь окидывая ее взглядом, исполненным нежности и тревоги, но, заметив лишь выражение униженной благодарности на ее прекрасном, измученном лице, вдвойне растроганные, делались еще более предупредительны, наперебой оказывали ей всевозможные знаки внимания, от которых она ужасно страдала.