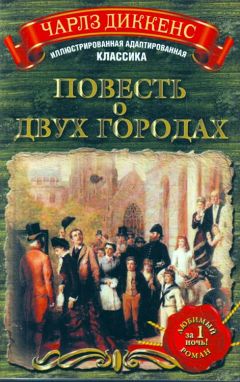Чарльз Диккенс - Повесть о двух городах
В ответ послышался одобрительный шепот, все закивали; потом Жак ненасытный спросил:
— А этого, деревенщину, мы скоро отправим? Надо бы поскорей. Уж очень он прост. Не вышло бы с ним чего!
— Он ничего не знает, — ответил Дефарж. — Ничего, кроме того, за что и сам может угодить на такую же высокую виселицу. Я за ним пригляжу, он у меня поживет. А потом я его отправлю. Ему хочется на знатных людей посмотреть, короля, королеву со всей их придворной свитой увидеть. Пусть поглядит, полюбуется на них в воскресенье.
— Как? — с изумлением уставившись на него, воскликнул Жак ненасытный. — Чего же тут хорошего, что ему хочется поглазеть на короля да на придворных?
— Жак, — сказал Дефарж, — чтобы приохотить кошку к молоку, надо показать ей молоко. Чтобы научить собаку хватать дичь, надо показать ей дичь.
На этом разговор кончился; они позвали каменщика, который уже задремал, сидя на ступеньке, и посоветовали ему лечь спать. Разумеется, тот не заставил себя просить, тут же растянулся на соломенной подстилке и заснул.
Погребок Дефаржа был неплохим пристанищем для простака-крестьянина, попавшего в Париж из деревни. Все для него здесь было ново и интересно, и он чувствовал бы себя как нельзя лучше, если бы не постоянный страх, который ему внушала мадам Дефарж. Мадам сидела целый день за стойкой и так упорно не замечала его, так явно давала ему понять, что она раз навсегда решила про себя считать его пустым местом, что ему всякий раз хотелось сквозь землю провалиться при виде ее. Ему казалось, что от нее можно всего ждать, мало ли что ей еще взбредет на ум; он был твердо уверен, что, если ей, например, втемяшится в голову, будто он убил человека, а потом содрал с него кожу, она так и будет стоять на своем и добьется, что все ей поверят.
Поэтому, в воскресенье, каменщик (хоть он и не подал виду) отнюдь не обрадовался, узнав, что мадам поедет с ними в Версаль[40]. Они ехали в дилижансе, и ему было как-то не по себе оттого, что она всю дорогу вязала, и еще больше не по себе потом, когда они стояли в толпе, дожидаясь кареты с королем и королевой, и мадам все так же старательно вязала.
— Усердно вы работаете, мадам, — заметил какой-то человек, стоящий рядом.
— Да, — сказала мадам Дефарж, — работы много скопилось.
— А что вы такое делаете, мадам?
— Да разные вещи.
— Ну, например?
— Например, саваны, — невозмутимо ответила мадам Дефарж.
Человек попятился и, как только ему удалось протиснуться, отодвинулся от нее подальше, а каменщик, которому вдруг стало как-то душно и тяжко, начал обмахиваться синим картузом. Но тут, к счастью, оказалось под рукой средство, которое сразу подействовало на него освежающе, — король с королевой, — они ехали в золотой карете, толстолицый король и красавица королева, а за ними следовала блестящая свита, — роскошно одетые дамы и кавалеры, веселые, смеющиеся; и все это сверкающее великолепие, золото, шелка, драгоценности, пудреные парики, прекрасные надменные лица, презрительно улыбающиеся толпе, вся эта невиданная роскошь так ошеломила бедного каменщика, что он, опьянев от избытка переполнявших его чувств, кричал, захлебываясь от восторга: «Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствуют все и вся!» — как будто он никогда и не слыхал о вездесущем Жаке[41]. Потом толпа двинулась в парк, и перед ним открылись террасы садов, аллеи, фонтаны, зеленые лужайки, острова, и здесь он опять увидел короля и королеву и всю их блистательную свиту дам и кавалеров, и опять он кричал вместе с толпой: «Да здравствуют все и вся!» — и слезы текли по его лицу, слезы умиления. В течение всего этого парада, длившегося по меньшей мере часа три, все время, пока он, не помня себя, вопил и умилялся вместе с толпой, Дефарж не отходил от него ни на шаг и крепко держал его за ворот рубахи, словно опасаясь, как бы он в пылу восторга не бросился на привороживших его нарядных куколок и не растерзал их на части.
— Браво! — сказал ему Дефарж, покровительственно похлопывая его по спине, когда вся эта феерия окончилась. — Хороший ты малый.
Каменщик уже несколько пришел в себя и с беспокойством подумывал, не было ли с его стороны неосторожно предаваться таким неумеренным восторгам; но нет.
— Нам вот как раз таких и надо, — наклонившись к нему, говорил Дефарж, — благодаря тебе эти глупцы думают, что как оно идет, так всегда и будет идти. И от этого они еще больше головы задирают, а чем больше они себе воли дают, тем скорее конец настанет.
— Ха! — подумав, отозвался каменщик. — А ведь правда.
— Эти глупцы ничего не понимают, они просто не замечают, что мы существуем; они могут передавить сотни таких, как ты, и без всякой жалости. Собаку или лошадь они скорее пожалеют, а нас… Они видят только, что мы им «ура» кричим да в ноги кланяемся… Что ж, пусть себе до поры до времени обманываются, недолго им осталось тешиться!
Мадам Дефарж окинула своего постояльца уничтожающим взглядом и одобрительно кивнула.
— А вы и рады кричать! — сказала она. — Вам бы только было на что глазеть да шуму побольше, и вы будете плакать от восторга и кричать «ура». Правду я говорю?
— Правду, сударыня. Так оно сейчас будто само собой получилось.
— А вот если бы, например, вам показали роскошных кукол и вы могли бы обобрать их, разломать на части, вы наверно выбрали бы самых богатых и нарядных? Не правда ли?
— Правда, сударыня.
— Так. Ну, а если бы вас привели в птичник и вы увидели бы множество красивых птиц, не умеющих летать, и вам позволили бы ощипать их и взять себе перья, вы наверно начали бы с самых красивых, ведь правда?
— Правда, сударыня.
— Ну, так вот, вы сегодня видели и этих кукол и этих птиц, — сказала мадам Дефарж, махнув рукой туда, где они только что любовались пышным зрелищем, — а теперь можете отправляться домой!
Глава XVI
Она все еще вяжет
Мадам Дефарж с супругом мирно возвращались к себе домой в лоно Сент-Антуанского предместья, а ничтожество в синем картузе брело в темноте по пыльной дороге, по проселкам, миля за милей, медленно приближаясь к тем краям, где замок господина маркиза, ныне покоящегося в могиле, прислушивался к шепоту деревьев. И днем и ночью каменные лица на стенах замка могли теперь без помехи, в полной тишине внимать шепоту деревьев и фонтана. Редко кто из деревенских забредал сюда в поисках травы, годной в пищу, или валежника для топки, и тем из них, кто отваживался заглянуть через ограду на широкий каменный двор и каменную лестницу с балюстрадой, мерещилось с голоду, что каменные лица глядят теперь не так, как прежде. В деревне пошли слухи — пищи для этих слухов было, пожалуй, не больше, чем ее было у жителей деревни, — говорили, что едва только нож вонзился в сердце маркиза, каменные лица, смотревшие с величавой гордостью, мгновенно исказились гневом и болью; а потом, когда того несчастного вздернули на виселицу и он повис на высоте сорока футов над водоемом, они опять изменились, и с тех пор так и глядят, зловещие, с лютым злорадством. А на том каменном лице, что глядит со стены над высоким окном спальни маркиза, где совершилось убийство, все стали замечать четко проступившие на крыльях тонкого носа знакомые впадинки, которых на нем прежде никто не видел. И в тех редких случаях, когда кто-нибудь из кучки оборванных бедняков, забредавших сюда, отваживался показать костлявым пальцем на окаменевшего господина маркиза, стоило им только взглянуть на него, они тут же бросались прочь и, припадая к земле, прятались среди мха и листьев, точно зайцы, которые были много счастливее их, ибо они всегда находили себе пропитание.
Замок и хижины, каменное лицо и тело, качающееся на виселице, кровавое пятно каменном полу и прозрачная вода в деревенском водоеме — тысячи акров господской земли — и вся округа — и вся Франция, — все укрылось под ночным сводом, который сошелся с землей еле видной черточкой горизонта. Так и весь наш мир, со всем, что в нем есть великого и малого, умещается на одной мерцающей звезде. И как жалкий человеческий разум способен расщепить световой луч и постичь тайну его строения, так в слабом мерцанье нашей планеты высший разум читает каждую мысль и поступок, прегрешение и добродетель каждого из земных созданий, отвечающих за свои дела.
Под небом, усеянным звездами, супруги Дефарж ехали из Версаля в дилижансе, медленно двигавшемся к парижской заставе. У заставы, как полагалось, остановились, и караульные с фонарями стали, как обычно, проверять документы проезжих. Мосье Дефарж вышел; у него здесь были знакомые — полицейский и кто-то из караульных. Полицейский был его приятель, и они дружески облобызались.
Когда, наконец, Сент-Антуанское предместье снова укрыло супругов своими темными крылами и они сошли у церкви св. Антуана и пошли пешком по грязным, заваленным отбросами переулкам, мадам Дефарж спросила мужа: