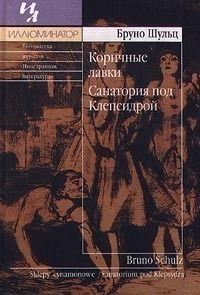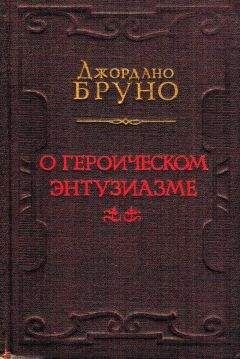Бруно Шульц - Трактат о манекенах
А еще дальше в глубине этой страны, населенной беззаботным народцем шутов, арлекинов и птицеловов с клетками, в стране без основательности и реальности маленькие турчанки пухлыми ручками лепят на досках медовые лепешки, а двое мальчишек в неаполитанских шляпах несут корзину с гулькающими голубями на палке, которая чуть прогибается под крылатым, воркующим грузом. А еще глубже, на самом пределе вечера, на последнем краешке земли, где на границе мутно-зеленого небытия колышется увядающий пучок аканта, все продолжается игра в карты, последняя людская ставка перед надвигающейся беспредельной ночью.
Весь этот склад одряхлевшей красоты подвергался болезненной дистилляции под давлением долгих лет скуки.
— Способны ли вы постичь, — вопрошал отец, — отчаяние обреченной этой красоты, ее дни и ночи? Вновь и вновь порывается она к иллюзорным торгам, инсценирует удачные распродажи, шумные многолюдные аукционы, вовлекается в страстную азартность, играет на понижение, по-мотовски расшвыривает, расточает свое богатство, чтобы, отрезвев, обнаружить, что все это тщетно и не выводит из замкнутого круга приговоренного к самому себе совершенству, не способно облегчить болезненной преизбыточности. И нет ничего странного в том, что это нетерпение, эта беспомощность прекрасного ввинтились в конце концов в наше небо, разгорелись заревом на нашем горизонте, выродились в атмосферное шарлатанство, в те огромные и фантастические облачные постановки, которые мы зовем нашей второй, нашей псевдоосенью. Эта вторая осень нашей провинции является не чем иным, как болезненной фатаморганой, что в увеличенном масштабе спроецирована на небосклон умирающей, замкнутой красотой наших музеев. Эта осень — громадный странствующий театр, что лжет поэзией, огромная красочная луковица, с которой слой за слоем слущиваются все новые и новые панорамы. И в ней никогда не добраться ни до какой сердцевины. За каждой кулисой, когда она увянет и, шурша, свернется, открывается новая лучистая перспектива, миг-другой живая и подлинная, покуда, угаснув, она не выдаст своей бумажной природы. И все перспективы в ней рисованные, все панорамы из картона, только лишь запах настоящий, запах увядающих кулис, запах гигантского гардероба, грима и ладана. А в сумерки чудовищный беспорядок и путаница кулис, сумбур брошенных костюмов, среди которых бродишь без конца, как среди шуршащих облетевших листьев. И огромная неразбериха, и каждый тянет за шнуры занавесов, и небо, бескрайнее осеннее небо, висит лохмотьями перспектив и преисполнено скрипа блоков. И торопливая горячечность, запыхавшийся и припозднившийся карнавал, паника предутренних бальных зал, и вавилонская башня масок, которые не могут отыскать свои истинные облачения.
Осень, осень, александрийская эпоха года, громоздящая в своих огромных библиотеках бесплодную мудрость трехсот шестидесяти пяти дней солнечного круга. О, эти старческие утра, желтые, как пергамент, сладостные от мудрости, как поздние вечера! Предвечерия, хитро усмехающиеся, как мудрые палимпсесты, многослойные, как старинные пожелтевшие книги! Ах, осенний день, старый проказник-библиотекарь, что лазает в сползающем халате по лесенкам и отведывает от варений всех веков и культур! Каждый ландшафт для него как вступление к старому роману. Как же отменно он развлекается, выпуская героев давних повествований на прогулку под это задымленное и медовое небо, в эту замутненную и печальную, позднюю сладостность света! Какие новые приключения поджидают Дон-Кихота в Соплицове? Как сложится жизнь Робинзона по возвращении в родной Болехов?
В душные, недвижные вечера, золотые от закатов, отец читал нам выдержки из своего манускрипта. Захватывающий полет мысли позволял ему на время забыть о грозном присутствии Адели.
Пришли теплые молдавские ветры, надвинулась огромная желтая монотонность, сладкое, бесплодное дуновение с юга. Осень не желала кончаться. Как мыльные пузыри, вставали дни, и каждый был еще прекрасней и эфирней, и каждый казался облагороженным до такой степени, что любой миг его существования становился чудом, продленным сверх всякой меры и почти что болезненным.
В тиши этих глубоких и дивных дней неощутимо менялась материя листвы, и вот однажды деревья встали в соломенном огне полностью дематериализовавшихся листьев, в красе, легкой, как налет путницы, как сыпь красочного конфетти — великолепные павлины и фениксы, которым достаточно лишь встряхнуться и затрепетать крыльями, чтобы сбросить это великолепное, легче папиросной бумаги, вылинявшее и уже ненужное оперение.
Мертвый сезон
В пятом часу утра — утра, яркого от раннего солнца, наш дом давно уже купался в беззаветном и тихом рассветном сиянии. В торжественный этот час дом, пока за ним никто еще не подглядывал, весь целиком тихонько входил — меж тем как через комнаты в полумраке опущенных штор еще шло согласное дыхание спящих — в пылающий на солнце фасад, в тишину утреннего жара, словно весь он по всей поверхности был слеплен из блаженно сонных, опущенных век. Вот так, пользуясь тишиной торжественного этого времени, дом впитывал самый первый огонь раннего утра счастливо сонным, млеющим в сиянии лицом, линеарностью черт, чуть вздрагивающих во сне от грез этого напряженного часа. Тень акации перед домом, ярко колышущаяся по жарким векам, повторяла на их поверхности, как на фортепьяно, снова и снова одну и ту же поблескивающую фразу, которую ополаскивало дуновение, — повторяла, тщетно пытаясь проникнуть в глубь золотого сна. Полотняные шторы впивали утренний пожар — порцию за порцией, — смуглели и загорали, теряя сознание в безбрежном блеске.
В этот ранний час мой отец, уже не способный обрести сон, спускался, нагруженный книгами, по ступенькам, чтобы открыть лавку, которая находилась в первом этаже дома. С минуту он недвижно стоял в дверях, выдерживая с закрытыми глазами могучую атаку солнечного огня. Освещенная солнцем стена дома сладостно втягивала его в свою блаженно выровненную, сглаженную до неразличимости плоскость. На миг он становился отцом уплощенным, вросшим в фасад, и ощущал, как разветвленные, дрожащие и теплые ладони плоско зарубцовываются в золотой штукатурке стены. (Сколько же отцов вот так вросло навсегда в фасад дома в пять утра, в тот миг, когда они сходили с последней ступеньки крыльца. Сколько отцов превратились навечно в стражей собственной двери, стали рельефами в дверной нише — с рукой на дверной ручке и лицом, что сплошь растеклось параллельными блаженными трещинками, по которым сыновья любовно проводят пальцами, ища последние отцовские следы, уже навек растворившиеся в безличной улыбке фасада.) Но последним усилием воли отец отрывался, обретал третье измерение и, вновь очеловеченный, освобождал окованные двери лавки от замков и железных накладок.
И когда он открывал тяжелую, обитую железом створку двери, бормотливый мрак отступал на шаг от входа, отодвигался на пядь в глубь лавки, перемещался и лениво укладывался в глубине. Незримо дымящая с прохладных еще плит тротуара утренняя свежесть робко стояла на пороге слабенькой, трепещущей струйкой воздуха А в глубине в непочатых штуках сукна лежала тьма множества предшествовавших дней и ночей, уложенная слоями, уходящая вдаль шпалерами, приглушенными вереницами и колоннами, пока не замирала бессильно в самой сердцевине лавки, в темном складе, где обращалась, уже неразделенная и насыщенная собой, в глухо бредящую суконную праматерию.
Отец шел вдоль высокой стены шевиотов и драпов, проводя рукой по торцам свертков мануфактуры, как по разрезам женских платьев. Под его касанием эти ряды слепых колод, вечно готовые впасть в панику, сломать порядок, успокаивались, укреплялись в своей суконной иерархии и строе.
Для отца наша лавка была предметом вечных терзаний и забот. Это творение его рук давно уже начинало — вырастая — с каждым днем все настойчивей давить на него, грозно и непонятно перерастать его. Оно было сверхмерной задачей, задачей превыше его сил, задачей высокой и необъятной. Огромность этих притязаний пугала отца. Со страхом всматривался он в ее величие, которое не смог бы удовлетворить даже всей своей жизнью, брошенной на эту одну-единственную карту, и с отчаянием обнаруживал легкомысленность приказчиков, их пустой, беззаботный оптимизм, дурашливые, бездумные действия, происходящие где-то на границе величественного предприятия. С горькой иронией исследовал он галерею их лиц, не омраченных ни единой заботой, лбов, не отмеченных следом хоть какой-либо мысли, проникал в самые глубины глаз, чьей невинной доверчивости не замутила даже легчайшая тень сомнения. А какую помощь могла оказать ему мама при всей своей верности и преданности? Даже слабый отблеск этого сверхмерного предприятия не достигал ее простой, свободной от страхов души. Нет, она не была создана для героических задач. Разве не видел он, как она за его спиной обменивается быстрыми сообщническими взглядами с приказчиками, радуясь каждой минуте, когда, оставшись без надзора, могла принять участие в их бессмысленных шутовских проделках?