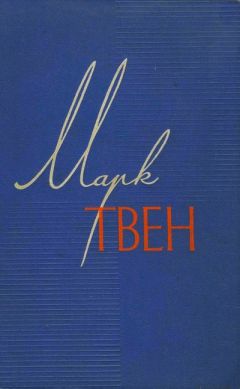Юз Алешковский - Собрание сочинений Т 3
Наблюдая за участковым, я не мог не заметить, что к оружию своему он относился с глубоким внутренним лиризмом и с необыкновенной родственностью, словно в кобуре его покоился не револьвер, а спящее невинное дитя. Заговорившись, задумавшись или прислушавшись к благоприятным действиям сивухи в организме, он вдруг, невесть что вообразив, аффективно, по-матерински спохватывался и хватался за кобуру. С большим облегчением вздохнув и погладив ее, он вновь отвлекался к болтовне и подпитию. При этом он и вправду походил на любящую мать, которая – исключительно из-за своей непредсказуемой шалавости – вполне может вдохновенно выпорхнуть на площадь, забыв коляску с ребенком в пивном зале…
На лице Феди – оно просто почернело уже от ежедневных поминок по брату – был страх перед приближением неких ужасных видений, но вовсе не мольба об избавлении от них. Наоборот – яснейшее было сознание, что нету на Земле сил, способных от них избавить. Должно быть, душа Феди смертельно устала, уверяясь каждый раз, что все это не прошедший жуткий сон, что все ж таки не пронесло, но что невыносимый ужас случившегося был, он есть, он всегда будет… Вжик – летит в пропасть с бесчувственных каменьев каких-то отдаленных и чуждых всей бывшей Смоленской губернии гор Женькина, брательникова, бедная голова, и брызги братской крови моросят… моросят… моросят перед безумеющими глазами, но боль того дикого ужаса и ужас той дикой боли не разрешаются в спасительном – как в удушье тягостного сна – крике, а вцепляются когтями прямо в сердце – остро жмут, сволочи, разрывают целое человеческое сердце на рваные куски, и какой обывательствующий небожитель терпеливо и по кровоточащим частям теперь его восстановит в счастливое целое?…
– Федор, – обратился я к товарищу по беде народной, чтобы начать отвлекать его от состояния страха, – благодарю тебя сердечно за такую отменную хаванину. Помыслить не мог ни о чем подобном в скучном рационе дней. Квакаю от удовольствия. Спасибо… ы-ык… ы-ы-ык… но отку… ды-к… откуда так-ак-ая иноземная традиц-иц-ия?
Федя, слава богу, отвлекся, засмеялся, тоже отрыгнул жжение пламенного уксуса со зловонно-огненной горчицей и сразу жизнелюбиво отдался жажде отвлечения от своих невыносимых видений.
Передаю его великодушно развернутый ответ на мой вопрос, то есть речь его я передаю без каких-либо самовольных сокращений и полностью сохраняя самобытный ее ритм.
Рифмовал, кстати говоря, Федя бессознательно, как это бывает с натурами одаренными, но дара своего культурно не развивающими. Подобные натуры лишь чувствуют реальное его присутствие в себе и жажду соответствия ему в минуты истинного вдохновения, когда заключенной в нас художественной силе оставаться наедине с самой собою становится почему-либо невмоготу. Вот его повествование.
Это у нас от Наполеона еще осталось.
Кутузов, когда отступал, сжег
на хрен весь хлеб
и вакуировал курей со скотиной,
чтоб врагу ничего не досталось.
Не желал он, чтоб русский с французом
сшиблись решительно лбами.
Народ это дело пережидает.
Сидит народ на картошке и щах с грибами.
Старики печально побздехивают на печах,
потому что все науке известно
насчет вечного брожения бздо во щах.
Тут французы пришли. Нигде цыплят
не нашли.
Нечем им, вроде нас, закусывать красное
и белое вино.
Один офицер ихний балакал слегка по-русски.
«Это, – говорит, – не война и не гастрономия,
а обыкновенное варварское говно.
Наш император, даже отступая,
наоставлял бы наступающему врагу
благородной выпивки и почетной закуски.
Французский, – говорит, – офицер –
не крепостной мужик.
У него должен торчать, почти
как гренадерский штык.
А при отсутствии надлежащей закуски
разве кого удовлетворишь по-нашенски,
по-французски?
Дикая, дикая, варварская страна.
Разве это красивейшая египетская баталия?
Это – просто отвратительная,
неблагородная война,
бесхозяйственный бардак и так далее».
Но тут подходит к тому офицерику
каптенармус Жак,
который, как написано в истории
для четвертого класса,
закусить и выпить был не дурак.
Подходит и подносит офицерику тому
чугунок на ухвате.
Тут такая сытая вонища
распространяется по хате,
точно картошки нажарила баба
с салом и лучком.
Офицер глаза от удивления выпучил.
Чубчик у него на голове – ажно
привстал торчком.
Это, короче говоря, были затушенные в
провансальском масле
задние дрыгалки местных наших
болотных жаб.
На следующий день собрал офицер
в колхозном клубе
всех стариков, пацанву и молодых
солдаток-баб.
«Всем, – говорит, – приказываю выйти срочно
на заготовку
лягушек и больших лягушат,
пока не наступила русская зима».
Тут поднимается на трибуну
толстожопая Авдеиха –
староста и моего прапрапрадеда
замечательная кума.
«Наполеоновская, – говорит, – шатия
и партобратия
принесла нашей Родине одни мучения
и проклятия.
Заявляем, несмотря на угрозы
со стороны штыков и пушек,
что сроду не жрали мы тута ни мышей,
ни тараканов,
ни тем более каких-то сопливых лягушек.
У нас от них по всему невинному телу
выскакивают шершавые бородавки.
И ни одна русская душа не выйдет
на подобные заготовки.
Хоть загоняйте всем нам под ногти
французские ваши булавки.
Хоть даже наставляйте вы на нас
одноглазые мортиры
и двуствольные винтовки».
Ну, Наполеонов офицер, как известно,
не германский –
в отношении к дамскому полу – фашист.
Пять минут прилипал он к Авдеихе,
как банный лист.
Десять минут он руки ее крестьянские,
задыхаяся, целовал.
Затем сорвал с погон аксельбанты.
Ручку жареным кренделем захреначил.
Рандеву, говорит, объявляется –
пройдемте на сеновал…
Федя сделал паузу. При этом выражение его лица было в высшей степени деликатным и даже, я сказал бы, благоговейно предупредительным, то есть истинно культурным – лицо человека, вынужденного в силу известных обстоятельств любезно оставить в одиночестве, скажем, парочку резко сблизившихся в дороге соседей по купе и на цыпочках удалиться перекурить в вонючий тамбур экспресса Смоленск – Воркута.
Он достал сигарету «Дымок» из такой смятой, измордованной и грязноватой пачки, что сердце у меня враз почему-то сжалось от сострадания к типично советскому, то есть бездарно бескачественному состоянию формы и вещества ничтожного этого, в сущности, изделия.
Федя закурил. Как художник истинный, пусть даже нисколько не осознававший своего натурального таланта, он пребывал в ту минуту в милом мире старинного времени, чудесно возвращенном кровоточащей его душе встрепенувшимся воображением.
Ни нас, ни всей печальной колхозной действительности, ни собственной его сегодняшней судьбы, из которой безуспешно старался Федя вытравить сивухой адское горе, для него как бы вовсе не существовало в пространстве той паузы.
Губы его, почерневшие от пьяни, посвежели вдруг. Но улыбка, оживившая их, не была инфантильно скабрезной, какой бывает она на лицах почти каждого из нас, когда мы порочно, то есть с хищной грязцой в уме смакуем то, перед чем следует душе замирать восторженно и благодарно.
Нет – в улыбке пьяненького нашего собутыльника и рассказчика была божественно веселая снисходительность, чистейшее благословение двух живых существ на случайное любовное свидание и вообще ревнование всякого такого нормального дела к чему-либо двусмысленному.
Затем Федя щелчком отбросил окурок «Дымка» в огород. Участковый проследил за траекторией и падением того окурка на грядку закосевшим, но привычно осуждающим взглядом.
– Я кидаю в землю органику, – так и взвился Федя, – а ты, болтают, взятки с председателя берешь за сокрытие слива говенной химии в Жабуньку. Оба и засираете священную Смоленщину. Неорганические поросята, понимаешь…
– У каждого из нас свое имеется место в заколдованном кругу Системы, а вашим инакомыслием природе не поможешь. Вот вы вдвоем только лодку на моем участке раскачиваете. Не рас-ка-чи-вать… Наливай! – нелогично воскликнул участковый после своей невнятной реплики.
Для Феди все это было мелким шумком в зрительном зале. Он продолжал, никому не налив:
– Потом, значит, выскочил офицер
оттедова, с сеновала,
без галифе и рылом, как рак, распарен.
«Я, – говорит, – большое получил удовольствие
и понимаю,
почему отседова пятьсот лет назад
отступил монголо-татарин.
Нигде не встречался мне такой
триумфальный амур!
Башка пылает, судари вы мои и сударыни,
как в горящей Москве абажур.
Текет теперича в моих жилах красное вино
и золотая ртуть».
Тут старый хрен Егорыч вставляет:
«Вас с вашенским Бонапартом скоро еще
не так уебутъ!»
Надо сказать, что не весь народ в деревне
у нас
был патриотически могучий и духовитый.
Имелся, к сожалению,
низкопоклонствующий отщепенец,
в сопротивлении супостату слабый
и бздиловатый.
Его-то и развратили представители
офицерской свиты,
а также тосковавшие по своим
Француазам солдаты.
Как же они совратили целый ряд
деревенских баб?
И как же те поддались
на антикутузовские провокации?
Француз коварно выдал за цыплячьи ляжки
задние лапы наших болотных жаб.
Он споил всех слабонервных и шибко
доверчивых
одеколоном «Шабли» и винищем
«Белая акация».
Превратил он наш жабунъкинский сельсовет
в публичное заведение, то есть в бордель
тет-а-тет.
Он мордатых полицаев расставил
на каждом шагу,
чтобы мы о политике Бонапартовой –
жаме ни гу-гу.
Он себе в баньке с бабами парится,
он себе дрыхнет на печке до самого рандеву.
Наутро опять супостата отпаривают
березовым веником.
Плевать ему и на своего обосравшегося
императора,
и на родную спаленную нашу Москву –
фактически становится он кавказским,
то есть ельнинским амурным пленником.
Но старый хрен Егорыч
делал соответствующие втыкания
всем слабобдительным деревенским дурам,
чтобы не предавались они в такую
военную кампанию
противоречивым, фотографическим фигурам.
Чтобы не дозволяли себе, курицы,
заморского купечества.
Чтобы не сладострастничали эти гадюки зря,
а ложились бы преданно на алтарь Отечества
и отдавали бы радостно всю свою жизнь
за Царя…
Затем весь народ вышел на поголовную
заготовку
и стратегическую засолку лягушатины,
чтоб до прихода царского войска совсем
не подохнуть.
Зима, как известно по истории партии,
была такая,
что ни бзднуть от души, ни характерно
для русского человека охнуть…
Ну, что еще?
Потом Бонапарт отступил очень позорно,
оставив нашей деревне свое чужеземное
наследство.
Вылупились вскоре пацанята с криком:
«Спасибо Наполеону за наше счастливое
детство!…»
С тех самых исторических пор
мы, официально выражаясь, стали
Жабунькой.
Гоним фрамбуаз из картошки.
Историцки выпивая, тоскливо бывает
квакаем.
Ну и об Отечественной войне
реалистицки, так сказать, балакаем.
По наследству же от тех самых офицеров
и солдатов
в Жабуньке нашей так называемая культура
половых отношений
сохраняется, как в Париже,
на уровне самом неимоверно высоком.
Я лично в валенках на бабу свою никогда
не залажу,
я слов ей поначалу натрекаю,
я ей, птичке, каждое перышко ласково
разглажу,
то есть по-человечески я ее преуведомляю,
пока вся она, понимаешь, не изойдет,
пока вся эта мадмуазель не нальется,
словно яблочко белый налив,
березовым, так сказать, соком…
Ну, чего еще?
Мы, конечно, всех некастрированных бычков
называем каждого или Бонапарт,
или Амур…
Только ни Амуров, ни Наполеонов в колхозе
у нас
ни одного, мусье, не осталось.
С окончательным развалом сельского
хозяйства
у нас, как говорится, всегда тужур.
Эх, доплясалась ты на сопках Маньчжурии,
родная Смоленщина!
Наконец-то ты тангов и гимнов
вприсядку у нас доплясалась!…
Благодаря заботе коммунистической партии
положения не может быть жутче.
Вот что сказал по такому же поводу
великий Тютчев:
в колхозе нашем «Красный колос»
дела давно уже в пизде.
Лишь паутины тонкий волос
блестит на праздной борозде…
– Насчет борозды и пьяной праздности – полностью согласен! В остальных обвинениях не вижу никакого реализма и резко возражаю! – страстно воскликнул участковый, но Федя, смерив его взглядом аристократичным, то есть скромным, однако ж полным значительного превосходства, продолжал: