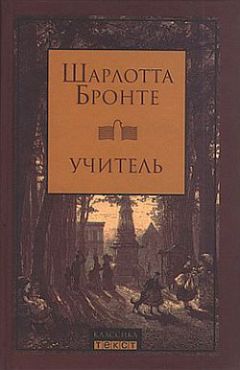Шарлотта Бронте - Джейн Эйр
Они рассеялись по гостиной, и грациозная легкость их движений придала им в моих глазах сходство с белыми длинноперыми птицами. Некоторые откинулись на диванах и оттоманках, другие наклонялись над столиками, рассматривая цветы и книги, остальные собрались в кружок перед камином. Все говорили негромко, но очень ясно, как было у них в манере. Имена их я узнала позже, но для простоты назову теперь же.
Во-первых, миссис Эштон и две ее дочери. В свое время она, несомненно, отличалась редкой красотой и все еще сохранила ее остатки. Эми, старшая дочь, выглядела миниатюрной, с наивным детским лицом и пикантной фигуркой. Белое кисейное платье с голубым кушаком очень ей шло. Ее сестра Луиза была более высокой, более изящного сложения и с миловидным лицом, того типа, который французы называют «minois chiffonné».[39] Обе они были белокуры и белизной походили на лилии.
Леди Линн, матрона лет сорока, обладала внушительной дородностью, держалась необыкновенно прямо и надменно и была облачена в пышное атласное платье, цвет которого все время менял оттенки. Темные глянцевитые волосы осеняло лазоревое перо, склоняясь над диадемой из драгоценных камней.
Миссис Дент, жена полковника, выглядела не столь броско, но, на мой взгляд, как истинная леди. У нее были светлые волосы, тоненькая фигура и бледное кроткое лицо. Ее черное атласное платье, шарф из тонких заграничных кружев и жемчужный убор понравились мне куда больше многоцветной радуги, украшавшей титулованную даму.
Однако наиболее выделялись среди них – возможно, благодаря высокому росту, – вдовствующая леди Ингрэм и ее дочери, Бланш и Мэри. Всех троих отличала величавость осанки. Матушке было что-то между сорока и пятьюдесятью. Ее фигура была все еще хороша, волосы (по крайней мере при свечах) сохраняли черноту, зубы также выглядели безупречными. Все назвали бы ее настоящей зрелой красавицей, да она, несомненно, и была такой, если говорить лишь о внешности, но в ее лице и манере держаться сквозило нестерпимое высокомерие. Черты ее лица были римскими, подбородок двойным и соединялся с шеей точно капитель с колонной. Мне казалось, что ее лицо было не просто надуто гордыней, но и потемнело и даже покрылось складками от нее. Та же гордыня удерживала ее подбородок почти неестественно вздернутым. А глаза смотрели яростно и беспощадно, напомнив мне глаза миссис Рид. Она отчеканивала слова, голос у нее был басистым, а тон очень чванным, очень безапелляционным – короче говоря, совершенно невыносимым. Малиновое бархатное платье и тюрбан из затканной золотом индийской материи придавали ей (как, полагаю, она считала) величие императрицы.
Бланш и Мэри были одного телосложения – стройные и высокие, как тополя. Для своего роста Мэри выглядела слишком худощавой, но Бланш могла фигурой поспорить с Дианой. Разумеется, на нее я смотрела с особым интересом. Во-первых, меня интересовало, насколько ее внешность соответствует описанию миссис Фэрфакс, во-вторых, есть ли в ней хоть малейшее сходство с миниатюрой, рожденной моей фантазией, и в-третьих – не стану скрывать, – в какой мере она, по моему мнению, отвечает вкусу мистера Рочестера.
Что до ее внешности, то она – черта за чертой – соответствовала и моему портрету, и описанию миссис Фэрфакс. Греческий бюст и покатые плечи, лебединая шея, темные глаза, черные локоны – все было на месте. Но ее лицо? Это было лицо ее матери, молодое, не тронутое временем подобие: тот же низкий лоб, те же римские черты, та же гордыня. Впрочем, гордыня эта еще не обрела мрачности – она часто смеялась, смех у нее был язвительным, как и обычное выражение надменно изогнутых губ.
Говорят, что гении самоуверенны. Не знаю, была ли мисс Ингрэм гением, но ее самоуверенность поистине поражала. Она заговорила о ботанике с кроткой миссис Дент. Оказалось, что миссис Дент не изучала этой науки, хотя, по ее словам, и очень любила цветы, «особенно полевые». А вот мисс Ингрэм ботанику изучала и теперь с величайшим апломбом пустила в ход ее язык. Я вскоре поняла, что она, как говорится, вываживает миссис Дент, то есть играет на ее неосведомленности. Вываживание это могло быть искусным, но притом и очень злым. Она сыграла на рояле – и сыграла блестяще, она спела – и ее голос был прекрасным, она заговорила по-французски со своей маменькой – с большой легкостью, с безупречным выговором.
Лицо Мэри казалось более добрым и более открытым, чем лицо Бланш, черты его были мягче, а кожа заметно светлее (мисс Ингрэм была смуглой, как испанка), однако Мэри выглядела безжизненной, ее чертам недоставало выразительности, глазам – блеска, ей нечего было сказать, и, опустившись в кресло, она сохраняла неподвижность, точно статуя в нише. Наряды обеих сестер были строго белоснежными.
И решила ли я, что мисс Ингрэм дано быть избранницей мистера Рочестера? Я не могла решить, я ведь не знала, какой тип женской красоты его привлекает. Если ему нравилась величественность, то она была само величие, а к тому же обладала множеством талантов и отличалась живостью. Наверное, ею должны восхищаться почти все джентльмены, размышляла я, а что ею восхищается он, у меня, казалось мне, уже были доказательства. Оставалось лишь понаблюдать за ними, когда они будут вместе.
Не думай, читатель, будто Адель все это время чинно сидела на скамеечке у моих ног. Нет, едва дамы вошли, как она встала, направилась им навстречу, сделала безупречный реверанс и произнесла торжественно:
– Bon jour, mesdames![40]
Мисс Ингрэм смерила ее насмешливым взглядом и воскликнула:
– Что за говорящая куколка!
Леди Линн заметила:
– Я полагаю, это воспитанница мистера Рочестера, та французская девочка, о которой он говорил.
Миссис Дент ласково пожала ей руку и поцеловала ее. Эми и Луиза Эштон вскричали хором:
– Какое прелестное дитя!
И тут же позвали ее на диван, где она теперь сидит между ними, щебеча то по-французски, то на ломаном английском (и не только с этими барышнями, но и с миссис Эштон, и с леди Линн), и может купаться в их внимании сколько ее душе угодно.
Наконец подают кофе и приглашают джентльменов. Я сижу в тени – если возможно отыскать тень в пылании стольких свечей. Гардины полускрывают меня. Вот вновь зияет арка, и появляются они. Группа входящих джентльменов производит не меньшее впечатление, чем прежде – группа дам. Все они одеты в черное, почти все – высокого роста. Некоторые молоды. Генри и Фредерик Линны, бесспорно, выглядят истинным воплощением светских повес, а полковник Дент – бравым солдатом. Мистер Эштон, мировой судья округи, очень благообразен: волосы у него совсем седые, но брови и бакенбарды все еще темные, и это придает ему сходство с театральным «благородным отцом». Лорд Ингрэм очень высок, как и его сестры, – как и они, он красив, но, подобно Мэри, выглядит апатичным и вялым. Видимо, горячность крови и сила его ума заметно уступают высоте роста.
А где же мистер Рочестер?
Наконец он входит. Я не смотрю на арку и все же вижу, как он входит. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на коклюшках, на петлях кошелечка, который плету, – я хочу думать только о моем рукоделии, видеть только серебристые бусины и шелковые нитки на моих коленях. И все-таки я ясно зрю его фигуру и, разумеется, вспоминаю те минуты, когда видела его в последний раз. Сразу после того, как я оказала ему, как он утверждал, неоценимую услугу: он держал меня за руку и глядел на мое лицо глазами, говорившими, как полно его готовое излиться сердце, и мне принадлежала доля этих чувств! Как близка я была к нему в тот миг! Так что же случилось с тех пор, какая перемена произошла в нашем положении относительно друг друга? Насколько далекими, насколько чужими мы стали теперь! Я не ждала, что он подойдет и заговорит со мной. И не удивилась, когда, даже не взглянув на меня, он сел в другом конце гостиной и начал беседовать с дамами.
Едва я убедилась, что его внимание приковано к ним и я могу не опасаясь смотреть туда, как мои глаза оказались прикованы к его лицу. Я не могла совладать со своими веками: они упрямо поднимались, и зрачки обращались на него. Я смотрела и испытывала горькую радость, несравненную, и все же болезненную радость – чистейшее золото со стальным острием муки, радость, подобную той, какая может охватить умирающего от жажды человека, знающего, что источник, до которого он с таким трудом добрался, отравлен, и все же страстно припадающего губами к божественной влаге.
Как справедливо присловье, что «красота – в глазах смотрящего»! Бледное оливково-смуглое лицо моего патрона, массивный квадратный лоб, густые черные брови, глубокие глаза, резкие черты, твердый мрачно сжатый рот – воплощение энергии, решительности, воли, – нет, их никак нельзя было счесть красивыми согласно канонам! Но для меня они были более чем красивыми, неизъяснимо интересными, полными силы, покорившей меня, отнявшей у меня власть над моими чувствами и приковавшей к нему. Я не собиралась любить его. Читателю известно, как я тщилась вырвать из своей души ростки любви, едва я их обнаружила. И вот теперь, при первом же взгляде на него, они сразу ожили: зеленые, полные жизни! Он принудил меня любить его, даже не удостоив меня взгляда.
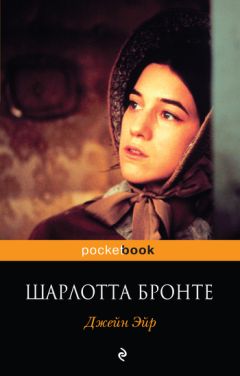
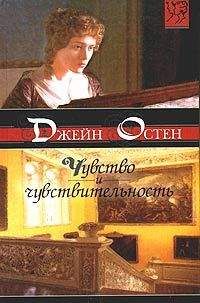
![Джейн Остен - Чувство и чувствительность [Разум и чувство]](/uploads/posts/books/136075/136075.jpg)