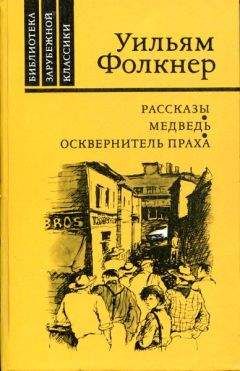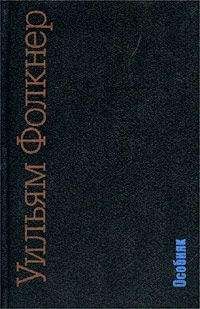Уильям Фолкнер - Свет в августе; Особняк
Затем они ушли, последний шаг, последняя дверь. Затем он услышал урчание машины, заглушившее насекомых; она гудела громче них, потом вровень, потом тише, пока не остались только насекомые. Он лежал под лампочкой. Он еще не мог двинуться — так же, как глядел, ничего не видя, слушал, не понимая; концы провода еще не соединились, и он лежал покойно, время от времени По-детски облизывая губы.
Затем концы провода пришли в соприкосновение, замкнулись. Он не знал точно, в какую секунду это произошло, только вдруг почувствовал, что голова раскалывается, и медленно сел, и, постепенно обретая себя, поднялся на ноги. Голова была дурная, комната шла кругом медленно и плавно, как мысли, и поэтому в мыслях возникло Еще нет Но боли он по-прежнему не ощущал — даже тогда, когда привалился к комоду и стал разглядывать в зеркале свое вспухшее, окровавленное лицо, трогать его. «Мать моя, — сказал он. — Ничего себе отделали». Он еще не думал, до сознания еще не поднялось Вроде надо уходить отсюда. Вроде надо уходить отсюда Он пошел к двери, вытянув руки перед собой, точно слепец или лунатик. Он попал в переднюю, не заметив, как прошел через дверь, и очутился в другой спальне, надеясь, — наверно, еще не думая, — что движется к выходу. Спальня тоже была тесная. Но, казалось, она еще полна блондинкой и шершавые тесные стены пучатся от ее воинственной диамантово-невозмутимой почтенности. На голом комоде стояла пол-литровая бутылка виски, почти полная. Он выпил ее, медленно, совсем не ощущая жжения, держась за комод, чтобы держаться на ногах. Виски потекло в глотку, холодное, безвкусное, как кормовая патока. Он поставил бутылку, прислонился к комоду, опустив голову, ни о чем не думая, и ждал, — может быть, безотчетно, а может, и вообще не ждал. Затем виски начало разгораться в нем, и он начал медленно покачивать головой, а мысли зашевелились заодно с медленным сворачиванием и выворачиванием внутренностей: «Надо уходить отсюда». Он вернулся в переднюю. Теперь голова прояснилась, не слушалось тело. Он вынужден был тащить его через всю переднюю к выходу, скользя по стене, и думал: «Ну, давай же, возьми себя в руки. Надо выйти». Думая Мне бы только выбраться на воздух, на холод, в прохладную темноту Он наблюдал за тем, как шарят по двери его руки, и старался помочь им, сдержать и направить их. «Хоть двери не заперли, — подумал он. — Мать моя, я бы тогда до утра не выбрался. Ни за что бы окно не открыть — не вылезти». Наконец он отворил дверь, вышел и затворил дверь за собой — опять после препирательств с собственным телом, которое не желало утруждать себя этим и лишь по принуждению затворило дверь покинутого дома, где горели мертвым ровным огнем две лампочки, не ведающие, что дом покинут, и безразличные к этому, столь же безразличные к тишине и запустению, сколь безразличны они были к дешевым скотским ночам, к грязным, захватанным стаканам и грязным, заезженным постелям. Его тело стало покладистей, слушалось лучше. Он шагнул с темного крыльца в лунный свет и с окровавленной головой и пустым желудком, в которых горел и буянил хмель, вступил на улицу, протянувшуюся отсюда на пятнадцать лет.
Хмель со временем выветрился, сменился новым и снова выветрился, но улице не было конца. С той ночи сотни улиц вытянулись в одну — с незаметными поворотами и сменами ландшафта, с промежутками езды — то попутчиком, то зайцем, на поездах, на грузовиках, на телегах, где в двадцать, в двадцать пять, в тридцать лет он сидит с неподвижным, жестким лицом, в костюме (пусть грязном и порванном) горожанина, а возница не знает, кто он и откуда, и не смеет спросить. Улица вела в Оклахому Я Миссури и дальше на юг, в Мексику, а оттуда обратно на север, в Чикаго и Детройт, потом опять на юг и, наконец, — в Миссисипи. Она растянулась на пятнадцать лет: она пролегла между ублюдочными варварскими фасадами нефтяных городишек, где он, в своей неизменной диагонали и легких туфлях, черных от бездонной грязи, ел с жестяных мисок грубую пищу, по десять — пятнадцать долларов порция, и платил из пачки банкнот толщиной с большую жабу, тоже перепачканной грязью, жирной и, казалось, неисчерпаемой, как золото, выделявшееся из нее. Улица пролегла среди желтых полей пшеницы, где желтые каленые дни труда сменялись тяжким сном в скирдах под холодной безумной луной и колкими сентябрьскими звездами: он был разнорабочим, шахтером, старателем, зазывалой игорного притона; он завербовался в армию, прослужил четыре месяца, дезертировал и не был пойман. И непременно, раньше или позже, улица пролегала через города, чьи названия не держались в памяти, через один и тот же, во всех городах одинаковый, квартал, где под темными, подозрительными сводами полуночи он спал с женщинами, платил им, если были деньги, а если не было, все равно спал, а потом говорил им, что он негр. Первое время, когда он был еще на Юге, это действовало. Получалось очень легко, очень просто. Рисковал он только тем, что его обругает женщина или бандерша, хотя, случалось, его избивали до потери сознания другие клиенты, и он приходил в себя где-нибудь на улице или в тюрьме.
Получалось это, пока он был на Юге или близко к Югу. Потому что однажды не получилось. Он поднялся с постели и сказал женщине, что он негр. «Ну? — удивилась она. — А я думала, опять какой-нибудь итальяшка». Она смотрела на него без особого интереса; потом, наверное, что-то увидела в его лице; сказала: «Ну и что? Выглядишь нормально. Видал бы ты, какого черного я перед тобой отпустила». Она смотрела на него. Теперь совсем застыв. «Слушай, ты где, по-твоему, находишься? Это, что тебе — отель Ритц?» Тут она замолчала. Она смотрела на его лицо, потом стала медленно пятиться, уставясь на него, бледнея, разинув рот, чтобы закричать. Потом она закричала. Чтобы скрутить его, понадобились двое полицейских. Сначала они подумали, что женщина убита.
После этого ему стало тошно. Раньше он не знал, что есть такие белые женщины, которые готовы принять мужчину с черной кожей. Ему было тошно два года. Иногда он вспоминал, как хитростью или насмешкой заставлял белых назвать себя негром, чтобы подраться с ними, избить их или быть избитым: теперь он подрался с негром, который назвал его белым. Он жил уже на Севере — в Чикаго, потом в Детройте. Он жил с неграми, сторонясь белых. Ел с ними, спал с ними — воинственный, замкнутый, способный выкинуть что угодно. Теперь он жил с женщиной, словно вырезанной из черного дерева. Ночами лежал рядом с ней без сна и вдруг начинал глубоко, тяжело дышать. Он делал это нарочно, чувствуя и даже наблюдая, как его белая грудь вздымается все круче и круче, пытаясь вобрать в себя темный запах, темное и непостижимое мышление и бытие негров, с каждым выдохом стараясь изгнать из себя кровь белого, мышление и бытие белого. А между тем от запаха, который он пытался сделать родным, ноздри его раздувались и белели, и все существо сводила судорога физического отвращения и духовного неприятия.
Он думал, что не от себя старается уйти, но от одиночества. А улица все тянулась: как для кошки, все места были одинаковы для него. И ни в одном он не находил покоя. Улица все тянулась в смене фаз и настроений, всегда безлюдная: видел ли он себя как бы в бесконечной последовательности аватар, среди безмолвия, обреченным движению, гонимым храбростью то подавляемого, то вновь разжигаемого отчаяния; отчаянием храбрости, которую надо то подавлять, то разжигать? Ему исполнилось тридцать три года.
Однажды улица приняла вид миссисипского поселка. Возле маленького города его ссадили с товарного поезда, шедшего на Юг. Он не знал, что это за городок; ему было все равно, как он называется. К тому же он и не видел его. Он обогнул его лесом, вышел на проселок, поглядел в одну сторону и в другую. Дорога была простая, грунтовая, но, как видно, наезженная. Он увидел несколько негритянских домишек, разбросанных вдоль нее, потом увидел, примерно в полумиле, дом побольше. Большой дом посреди рощицы — в прошлом, видимо, не без претензий на роскошь. Но теперь деревья нуждались в стрижке, а дом не красили много лет. Однако ясно было, что в доме живут, а он не ел уже сутки. «Этот, пожалуй, сойдет», — подумал он.
Но он пошел туда не сразу, хотя день клонился к вечеру. Он повернулся к дому спиной и пошел в обратную сторону — в грязной белой рубашке, в вытертых диагоналевых брюках, потрескавшихся запыленных городских туфлях, дерзко заломленной суконной кепке, обросший трехдневной щетиной. И все равно он не был похож на бродягу, — по крайней мере, на взгляд парнишки-негра, который шел ему навстречу, размахивая ведром. Он остановил парнишку.
— В том большом доме кто живет? — спросил он.
— Вон там вон? Мис Берден.
— Миссис Берден с мужем?
— Она без мужа. Она там одна живет.
— Ага. Старуха, что ли?
— Нет, сэр, мис Берден — она не старая. Но и не молодая.
— И живет одна. И что же — не боится?