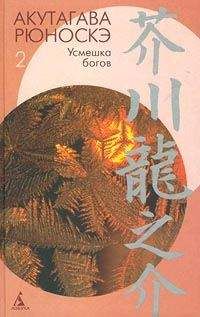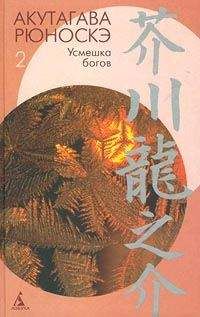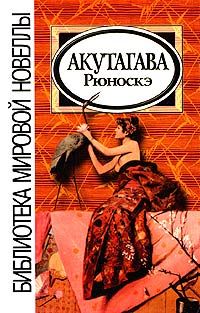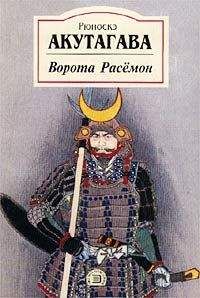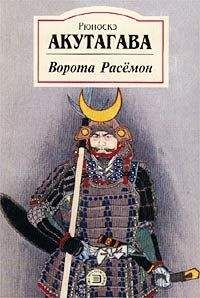Акутагава Рюноскэ - Новеллы
И все же учитель Мори храбро продолжал переводить, пока не прозвучал сигнал на перемену. Тогда, дочитав последний отрывок, он с тем же невозмутимым видом ответил на наше прощальное приветствие и, словно позабыв только что выдержанную жестокую битву, спокойно вышел из класса. Мы разразились неудержимым хохотом, зашумели, нарочно стуча крышками парт; некоторые ученики, вскочив на кафедру, сразу же принялись передразнивать повадки и голос нового учителя… Ах, да и я сам, со значком старосты класса, окруженный другими учениками, задрал нос и стал указывать им ошибки в переводе учителя… надо ли все это вспоминать? В самом деле, тогда я даже похвалялся тем, чего не знал наверно: действительно ли это ошибки или нет?
«Паутинка»
* * *Это было в час отдыха, через три-четыре дня. Мы, несколько учеников, собрались у песчаной горки на гимнастической площадке и, греясь на теплом зимнем солнце, без конца болтали о предстоящих в недалеком будущем годовых экзаменах. Громко скомандовав «раз-два!», на песок спрыгнул учитель Тамба, весивший целых восемнадцать кан{149}, который упражнялся со школьниками на железном столбе, и рядом с нами появилась его фигура в жилете и спортивной кепке.
— Ну, как он, ваш новый учитель Мори? — осведомился он. Тамба-сэнсэй тоже преподавал в нашем классе английский язык, но он был известный любитель спорта, и так как он с давних пор хорошо распевал стихи{150}, то пользовался большой популярностью в компании героев — мастеров дзюдо и фехтования, не терпевших никакого английского языка. Поэтому в ответ на слова учителя один из героев, поигрывая боксерской перчаткой, с несвойственной ему робостью, ответил:
— Да, уж очень… как бы это сказать, уж очень, как будто… не так уж хорошо знает.
Стряхивая платком песок с брюк, учитель Тамба самодовольно рассмеялся.
— Хуже тебя, что ли?
— Нет, по сравнению со мной-то лучше.
— Ну так чего ж тут рассуждать!
Герой почесал рукой в перчатке голову и бесславно стушевался. Но первый по английскому языку ученик нашего класса, поправляя свои очки с толстыми стеклами, возразил не по возрасту благоразумным тоном:
— Ведь большинство из нас, сэнсэй, намерены держать вступительные экзамены в специальные институты, поэтому мы хотели бы учиться у преподавателя, который может выходить за рамки программы.
Но Тамба-сэнсэй, по-прежнему богатырски смеясь, сказал:
— Чего там, ведь дело идет об одном семестре, так у кого ни учись, все едино.
— Значит, Мори-сэнсэй будет преподавать у нас только один семестр?
Этот вопрос, видимо, и учителя Тамба слегка задел за живое. Житейски опытный учитель намеренно не ответил и, сняв спортивную кепку, стал энергично стряхивать пыль со своей коротко стриженной головы, а затем, обведя нас взглядом, искусно переменил тему:
— Видите ли, Мори-сэнсэй — очень старый человек и поэтому немного другой, чем мы… Вот сегодня утром вхожу я в трамвай, а Мори-сэнсэй сидит в самой середине, и когда трамвай подходил к остановке, где ему надо было пересаживаться, он вдруг завопил: «Кондуктор, кондуктор!» Мне стало смешно, сил нет. Во всяком случае, он немного странный человек.
Но если уж речь зашла об этой стороне личности учителя Мори, то и без Тамба-сэнсэя мы знали многое, что приводило нас в изумление…
— И еще Мори-сэнсэй в дождь ходит в гэта{151}, хотя на нем европейский костюм.
— А у пояса у него всегда висит что-то завернутое в белый носовой платок, и подумайте — это его завтрак!
— Я видел, как Мори-сэнсэй в трамвае держался за ремень, и перчатки у него были совсем дырявые.
Окружив учителя Тамба, мы наперебой болтали невероятную чушь. Видимо, поддавшись этому, учитель Тамба, когда наши голоса стали громче, произнес веселым тоном, вертя в руке свою кепку:
— Да это что! Шляпа-то у него старая…
И в этот самый момент — кто бы мог подумать? — на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от нас у входа в двухэтажное здание училища, напротив спортивной площадки, появилась невозмутимая тщедушная фигурка учителя Мори в старом котелке; рука его, как обычно, прикасалась к лиловому банту. У входа несколько первоклассников играли в лошадки; увидев учителя, они наперебой стали вежливо кланяться. И Мори-сэнсэй, стоя на солнце, лучи которого падали на каменные ступени входа, с улыбкой ответил на поклоны, приподняв котелок. При виде этой картины мы почувствовали какой-то стыд, и оживленный смех на некоторое время затих. Только Тамба-сэнсэй, видимо, был слишком смущен и растерян, чтобы просто замолчать. Произнеся: «Шляпа-то у него старая», — он слегка высунул язык, быстро надел свою кепку и вдруг, круто обернувшись и громко крикнув «раз!», забросил свое полное тело, облаченное в жилетку, на железный столб. Затем, подтягиваясь по-рачьи и вытягивая ноги далеко вверх, он крикнул «два!» и, отчетливым силуэтом пронзая синее зимнее небо, легко взобрался на самый верх. Вполне естественно, что эта комичная попытка учителя Тамба скрыть свое смущение всех нас рассмешила. Глядя вверх на учителя Тамба, ученики, на минуту было притихшие, громко загалдели и захлопали учителю Тамба, совсем как болельщики на футболе.
Разумеется, я аплодировал вместе со всеми. Но уже тогда начинал, правда, пока еще инстинктивно, ненавидеть учителя Тамба. Это не значит, что я так уж проникся сочувствием к учителю Мори. Доказательством служили аплодисменты, которыми я наградил учителя Тамба, заключавшие в себе косвенное недоброжелательство к учителю Мори. Анализируя себя теперь, я, пожалуй, могу объяснить свое тогдашнее состояние духа таким образом: презирая Тамба-сэнсэя, я вместе с тем презирал заодно и Мори-сэнсэя. А может быть и так, что мое презрение к учителю Мори стало более наглым, словно получив подтверждение в словах учителя Тамба — «а шляпа-то у него старая». Поэтому, продолжая аплодировать, я через плечо торжествующе оглянулся на вход в школу. А там наш невозмутимый учитель Мори, как зимняя муха, жадно греющаяся на солнце, одиноко стоял на каменных ступенях и с интересом наблюдал за невинными играми первоклассников. Его котелок и лиловый галстук… Почему эта картина, которую я тогда охватил одним взглядом и которая показалась мне достойной осмеяния, до сих пор не выходит у меня из головы?
* * *Чувство презрения, которое в первый же день занятий возбудил в нас учитель Мори своим костюмом в своими знаниями, особенно с тех пор как учитель Тамба допустил оплошность (?), понемногу крепло во всем классе. Дело было как-то утром менее чем через неделю. С прошлого вечера шел снег, и на торчавшей перед окнами крыше здания, заменявшего в дождь спортивную площадку, больше не просвечивали черепицы. Но в классе стояла печка, где пылал раскаленный уголь, и даже снег, оседавший на оконных стеклах, таял, не успевая блеснуть своей голубизной. Поставив стул перед печкой, учитель Мори своим пронзительным голосом с увлечением объяснял помещенную в хрестоматии «А Psalm of life»{152}, но никто, конечно, его серьезно не слушал. Мало того что не слушал: мой сосед по парте, мастер дзюдо, подложил под хрестоматию развернутый журнал «Букё-сэкай» и с самого начала читал приключенческий роман Осикава Сюнро{153}.
Так продолжалось минут двадцать — тридцать. Затем учитель Мори вдруг поднялся со стула и, пересказывая стихотворение Лонгфелло, которое он только что объяснял, принялся толковать о вопросах человеческой жизни. В чем состояла суть его разговоров, я не помню, но думаю, что это были не столько рассуждения, сколько какие-то впечатления его собственной жизни, потому что из того, что он говорил взволнованным голосом, все время взмахивая обеими руками, как птица с ободранными крыльями, мне смутно припоминаются такие фразы:
— Вы еще не знаете человеческой жизни. Хотите узнать, но не знаете. И в этом ваше счастье. Когда станете такими, как мы, то прекрасно узнаете жизнь. Узнаете и то, что есть в ней много тяжелого… Понимаете? Много тяжелого. Вот и у меня — двое детей. Надо отдать их в школу. А чтоб отдать, э… чтоб отдать… плата за учение? Да. Нужна плата за учение. Понимаете? Поэтому есть очень много тяжелого.
Но настроение, с которым учитель жаловался на жизненные трудности школьникам, ничего не знающим о жизни, жаловался, может быть, и сам того не желая, разумеется, не могло нам быть понятным. Более того, видя только смешную сторону самого факта его жалоб, мы во время его речи стали потихоньку посмеиваться. Этот смешок не превратился в обычный громкий смех, вероятно, лишь потому, что жалкая одежда учителя и выражение его лица, когда он разглагольствовал своим пронзительным голосом, словно воплощая в себе сами тяготы жизни, пробудили в нас некоторое сочувствие. Но хотя наш смех не стал громче, зато немного спустя сидевший рядом со мной мастер дзюдо вдруг отложил журнал и подчеркнуто резко встал.