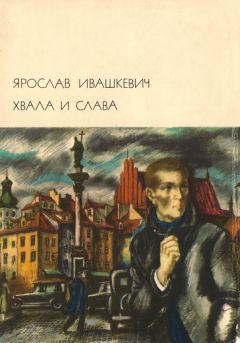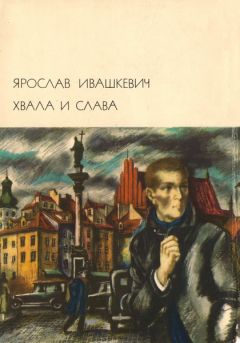Ярослав Ивашкевич - Хвала и слава. Книга вторая
Впереди ждала его жизнь, целая жизнь, вот-вот уже наступающая. Она приближалась к нему сейчас из этой вот темной ночи, а он так ничего и не мог во всем этом понять. Что-то большое, черное, бесформенное и шумящее, как этот ветер, через каждые две-три минуты врывающийся в кроны кленов и лип. Какая же она, какой она будет эта жизнь? И сколько лет будет длиться? И как это бывает, что вот время уходит и человек стареет?
Тот, кто только достиг зрелости, преодолел самый высокий порог, никогда не может представить, как оно бывает, когда человек стареет. Вот и Анджей не представлял себе этого. И все же это страшно интересовало его, и он хотел бы знать, как же это происходит.
— Еще узнаю. Потом, — произнес он шепотом.
Идти спать не хотелось, ведь завтра с утра его захватит установившийся ход деревенской жизни, и тогда ему уже не захочется думать об этом, зато вот сейчас перед ним такая черная, теплая ночь, и ночь эта дана ему, чтобы подумать о громадном, черном океане, в который он, как и любой юнец, выплывает безоружным и не подготовленным.
Впереди были только эти несколько часов ночного одиночества, отданные «фаустовским» размышлениям, как называл их дядя Эдгар. Анджей слышал иногда разговоры матери с дядей Эдгаром, и все, что говорил Шиллер, производило на него большое впечатление. Только он очень редко позволял себе эти «фаустовские» мысли. Несмотря на кажущуюся ребячливость, Анджей уже был очень занятым человеком, изучение разных бесплодных наук, которые приходилось зубрить перед экзаменом на аттестат зрелости, отнимало у него много времени, к тому же несколько часов уходило на легкую атлетику. Такого вот умственного окна, как сейчас, у него уже давно не было, и поэтому так приятно было наслаждаться ароматным воздухом и серьезными, взрослыми мыслями. И он упивался ими, как водкой или первым поцелуем, когда, кроме самого действия, безумное удовольствие доставляет сознание того, что он уже может это делать, что уже может так думать, что он уже достаточно взрослый для этого.
Старый пес Кудлаш вынырнул из тени и не долго думая положил голову ему на колени. Это хорошо, когда рядом пес, и Анджей подумал, что каждый год будет приезжать в Пустые Лонки и с каждым годом будет становиться все умнее и искушеннее, все совершеннее и благороднее, и только чувство любви в сердце всегда будет неизменным.
— Никогда никуда я не буду ездить, только в Пустые Лонки, — сказал он Кудлашу, гладя его теплую, словно за день нагретую солнцем, голову.
И он почувствовал в темноте ночи, как его натренированное и легкое тело пронизывает током тени и ветра, всего, что вокруг, как он сливается с мимолетным шелестом и с этим неохватным безмолвием, которое уходило далеко-далеко — за лес, в поля и далеко в высь, где тянулись скомканные тучи; чувствовал, как он сливается с молчанием, теплом и ароматом.
Одновременно он чувствовал, что тело это требует какого-то пополнения, чего-то домогается, так же как домогаются ответа все эти «фаустовские» вопросы. И несмотря на то, что он спокойно сидел на ступеньке крыльца («на ступеньке ночи», — подумал он) и гладил голову старого, молчаливого пса, он бросал в темноту шумящего парка какой-то настойчивый и важный вопрос, взывая о чем-то, на что ни ночь, ни ветер, ни парк, ни аромат не отвечали.
Но он знал, что они могли бы ответить, только не хотели. И знал, что в этом шуме есть много такого, от чего у него могла бы закружиться голова.
«Завтра будет обычный день, — подумал он, — но сегодня эта ночь до самого утра моя, и никто ее у меня не отнимет. Я должен бодрствовать и слушать, как дует ветер и трещат ветви, должен бодрствовать и слушать, как во мне что-то растет и переливается.
Что это? Кровь? Любовь? И кто меня слушает? Природа? Бог?»
Пришел старый Франтишек и потрогал его за плечо.
— Спать пора, сударь.
Но Анджей отослал его, сказав, что сам замкнет двери (запирались они на большие старомодные засовы). И просидел в одиночестве до той поры, пока не стали отчетливо вырисовываться очертания деревьев на светлеющем небе и не застучали первые тяжелые капли теплого дождя.
— Этой ночи никто у меня не отнимет. Это начало жизни, — произнес он, поднимаясь.
Закрыв двери на засов, он прошел через гостиную в свою башенку, где стояла простая деревянная кровать. Здесь он съел клубнику со сливками, которую, очевидно, приказала поставить ему «на сон грядущий» бабушка Михася, разделся догола и укрылся тонким одеялом.
«Какая ночь», — подумал он, засыпая каменным сном.
Проснулся он довольно поздно, и все выглядело уже по-обычному. На дворе шел дождь. В столовой стоял только один его прибор, и в конце длинного стола сидела маленькая Зюня, дочка Валерека, девочка лет пяти, со своей воспитательницей, панной Вандой — особой небольшого роста, но строгой на вид. Гувернантка очень холодно ответила на поклон Анджея, а девочка уставилась на него хмурым взглядом своих черных глаз. Анджей спросил, встали ли уже тетка и бабушка, на что панна Ванда ответила, что тетя занята по хозяйству, а бабушка последнее время не встает с постели.
И как будто только для того, чтобы опровергнуть эти слова, появилась тетя Михася, в шлафроке, такая маленькая, сухонькая. Анджей заметил, что она очень изменилась с той поры, как уехала из Варшавы. Особенно бросилась ему в глаза ее желтая кожа какого-то неестественного, глинистого оттенка.
Он поцеловал бабушке руку.
— Вы что, тетя, прихварываете? — вежливо спросил он. Пани Сенчиковская не разрешала звать себя «бабушкой», и потому для всех внуков она была «тетей».
Тетя Михася махнула рукой.
— Ну как там дома? Все здоровы? — спросила она, садясь рядом с Анджеем.
Анджей ответил, что все разъезжаются в разные стороны, потом замолчал.
— А отец?
— Отец занят. Может быть, приедет сюда денька на два.
— Хорошо бы. Так хотела бы его повидать, — как-то многозначительно сказала тетя.
— Спасибо за клубнику. Это вы, верно, поставили?
— Велела поставить. Это же последняя. Поздний сорт — черненькие. Сладкая как сахар. Но больше уже нет.
— Жалко.
— Сейчас малина пойдет. Так ведь, панна Ванда? Эвелина мне говорила.
Панна Ванда пробормотала что-то невнятное. Аиджей озадаченно подумал, почему это гувернантка относится к нему так недоброжелательно, но тут же перекинулся мыслями на другое.
— Вы не выходите, тетя? — спросил он.
— Нет. Лежу теперь целый день. Но мне уже лучше.
Вошла Ройская. В полотняной шляпе, светлом платье с черными цветочками, в черных митенках, позвякивающая ключами, она показалась Анджею воплощением сельского лета.
— Немножко промокла, — сказала она, когда Анджей поцеловал ей руку. — Вот что, дорогой, в амбаре овес перевешивают. Правда, там Козловский, но я хотела бы, чтобы ты побыл там до обеда. Запиши только круглый вес. И больше ничего. Завтра евреи из Седлеца должны за ним приехать.
Тетя Михася покачала головой.
— И как только они не боятся, — шепнула она.
Ройская вскинулась:
— Михася моя, почему ты спустилась? Ты же так ужасно вчера себя чувствовала, а сегодня вдруг встала… Ты же белая как стена…
— Анджея вот хотела повидать.
— Анджей хороший внук, и он, конечно, поднялся бы к тебе. Хотя бы для того, чтобы поблагодарить за клубнику, из-за которой ты нам вчера все уши прожужжала.
Тетя Михася встала.
— Эвелина, — спокойно сказала она, — я не узнаю тебя. «Уши прожужжала». Quelle expression! {33}
Анджей выбежал на двор. Дождь был мелкий, просто моросило, и на волосах его осели прозрачные капельки. В амбаре было сумрачно и сыро. Козловский, низкорослый, брюхатый брюнет с глазами навыкате, которые он непрерывно вскидывал и таращил, встретил Анджея радостным возгласом.
— А привет, привет! — закричал он, протягивая ему руку.
Анджей смутился. Умения «досматривать по хозяйству», которое всегда поражало его в тете Эвелине, у него не было. Каждый раз, когда приходилось что-то перевешивать, подсчитывать, записывать, что так или иначе говорило о недоверии к работникам, которых словно подозревали в воровстве, он чувствовал себя страшно неловко. Но Козловский сам облегчил его положение.
— Графиня, — так он всегда называл Ройскую, — с самого утра записала пятьдесят шесть мешков, которые мы успели перевесить. Извольте, вот вам бумага и карандаш. В каждом мешке по пятьдесят кило. Подсчитать проще простого. Лучше всего ставить палочки, а потом каждый десяток перечеркивать, вот и пятьсот кило сразу.
— И много этого овса? — спросил Анджей, стараясь придать своему голосу как можно более деловитый тон.
— А вот он весь. Тонн двенадцать. Но на завтра нужно только пятьдесят центнеров.
Анджей оглядел просторный амбар. Закрома с овсом находились в глубине, там высились огромные пирамиды золотого, чистого зерна, которое так приятно — совсем не так, как рожь, — шуршало, когда в него погружали деревянный совок. Работали здесь пять девушек. Одна насыпала зерно совком в подставленный мешок, а другие подхватывали его и оттаскивали к стене к остальным. По дороге они ставили мешок на десятичные весы и, ловко закрутив свободно свисающий верх, засовывали его в середку мешка. Зерно ссыпалось с этих пирамид и шуршащей массой заливало ноги девушек.