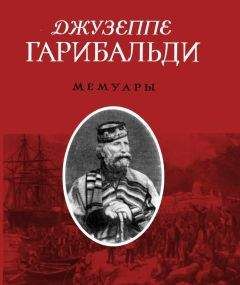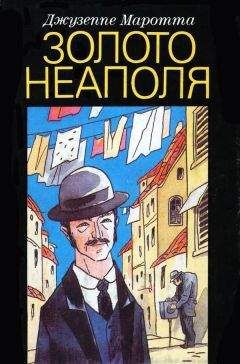Джузеппе Томази ди Лампедуза - Леопард
Как ни странно, но именно религиозное чувство избавило его от этого зоологического виденья: от компании обезьянок в кринолинах исходил монотонный и непрестанный призыв к божественным силам. «Мария! Мария!» — не переставали восклицать эти бедные лягушки. «Мария! Какой прекрасный дом!», «Мария! Какой красавец этот полковник Паллавичино!», «Мария! У меня болят ноги!», «Мария! До чего я проголодалась! Когда откроют буфет?» Имя девственницы, к которой взывал этот девичий хор, наполняло собой галерею и вновь превращало обезьянок в женщин, поскольку еще не поступало известий, что шимпанзе бразильских лесов обратились в католическую веру.
Испытывая легкое чувство тошноты, князь перешел в соседний салон, где собралось столь различное и враждебное племя мужчин; молодежь танцевала, здесь были лишь люди пожилые, все его друзья. Он немного посидел с ними: тут больше не взывали всуе к царице небесной, но воздух сгущался от обилия прописных истин и плоских разговоров.
Среди этих тривиальных синьоров дон Фабрицио слыл человеком «экстравагантным», в его интересе к математике усматривали чуть ли не греховную извращенность; не будь он князем Салина, не будь о нем известно, что он превосходный наездник, неутомимый охотник и волокита, он мог бы оказаться вне закона из-за своих телескопов и параллаксов. Поэтому с ним редко вступали в разговор: холодная голубизна его глаз, глядевших из-под тяжелых век, выбивала собеседников из седла, и часто он оказывался в одиночестве, Потому что его побаивались (а не уважали, как казалось ему!).
Князь встал; грусть превратилась в настоящую черную тоску. Он поступил опрометчиво, приехав на этот бал; Стелла, Анджелика и девочки превосходно справились бы одни, а он мог бы сейчас блаженствовать в своем маленьком, прилегавшем к террасе кабинете на виа Салина; там под журчание фонтана он бы пытался ухватить кометы за хвост.
«Ничего не поделаешь, теперь я здесь, будет невежливо уйти. Лучше поглядим, как танцуют».
Зал для танцев весь в позолоте: гладкое золото карнизов, золотые кромки над дверными рамами, светлые, камчатные, почти серебристые узоры на фоне более темного золота покрывают двери и жалюзи, которыми не только прикрыли, но как бы зачеркнули окна, придав залу надменный вид ларца и устранив всякую возможность сопоставления с внешней средой, недостойной его красоты. То не была броская позолота, которой теперь щеголяют некоторые декораторы; золото в этом зале сверкало тусклым огнем, было бледным, как волосы девочек на севере, оно должно было под покровом ныне утраченного целомудрия скрывать стоимость драгоценного материала, который стремится показать свою красоту и заставляет позабыть о своей цене. А вдоль панелей разбросаны цветы в стиле рококо, краска которых, казалось, улетучилась до такой степени, что их можно было принять лишь за призрачный отблеск огней.
И все же эти солнечные тона, это чередование бликов и теней причинили боль сердцу дона Фабрицио. Он стоял в дверях, неподвижный и черный: в этом зале, отмеченном патрицианской роскошью, перед ним возникали деревенские картины, эта хроматическая гамма вызывала в его памяти зрелище нескончаемых полей вокруг Доннафугаты, исступленно моливших о пощаде своего тирана — солнце; в этом зале, как и в поместьях к середине августа, урожай уж давно собран и ссыпан где-то в амбары, здесь, как и там, память о нем сохранилась только в красках стерни, выжженной и никому не нужной.
Вальс, звуки которого неслись в теплом воздухе, казался ему лишь стилизацией непрестанной песни ветров, заупокойной песней ветра самому себе, которая плывет над изнывающими от жажды просторами, — так было вчера, сегодня, так будет завтра, так будет всегда, всегда, всегда. Толпа танцующих, среди которой было немало людей, близких ему по крови, но не по духу, в конце концов показалась ему призрачной и сотканной из той же материи, что и предсмертные воспоминания, а ведь они еще невесомей наших снов. Божества, восседая на позолоченных скамьях, глядели вниз с потолка, улыбающиеся и неумолимые, как летнее небо. Они почитали себя вечными: бомба, сфабрикованная в Питтсбурге, штат Пенсильвания, должна была в тысяча девятьсот сорок третьем доказать им обратное.
— Прекрасно, князь, прекрасно! При нынешних ценах на чистое золото таких вещей не делают! — Седара пристроился рядом с ним; его живые, бесчувственные к красоте и столь внимательные к денежной стоимости глаза бегали по залу.
Внезапно дон Фабрицио почувствовал, что ненавидит его; возвышение этого человека и ста подобных ему, темные их интриги, упорная скупость и алчность — вот причина того ощущения смерти, от которого сейчас столь явно мрачнеют эти дворцы; Седара и ему подобным, их злобе, их чувству приниженности, их неудавшемуся расцвету обязан он тем, что сейчас и ему, дону Фабрицио, черные фраки танцующих напоминают кружащееся воронье, которое выискивает падаль в затерянных лощинах. Ему захотелось ответить злобно, попросить его не путаться под ногами. Нельзя: он гость, он отец дорогой Анджелики. Быть может, и он несчастен, как другие.
— Прекрасно, дон Калоджеро, прекрасно. Но все превзошли наши дети.
В эту минуту мимо проскользнули Танкреди с Анджеликой; его правая рука в перчатке обвивала ее стан, вытянутые руки переплетались, глаза были жадно устремлены друг на друга. Его черный фрак и ее розовое платье, смешавшись в танце, походили на причудливую драгоценность. Юные влюбленные, танцевавшие вдвоем, слепые к взаимным недостаткам, глухие к предостережениям судьбы, поверившие, что весь их жизненный путь будет гладок, как паркет салона, походили на невежественных актеров, которых режиссер заставил играть Ромео и Джульетту, утаив от них склеп и яд, уже предусмотренные ролью. Оба они являли собой картину, как нельзя более патетическую. Ни он, ни она не были добры, у обоих были свои расчеты и тайные цели, но теперь, когда их наивное, не совсем чистое тщеславие прикрывалось нежными словами, которые он нашептывал ей на ухо, запахом ее волос, взаимным влечением этих тел, которым тоже предназначено умереть, оба они были дороги растроганному князю.
Молодая пара удалялась; ее сменяли другие, не столь красивые, но все же трогательные, также погруженные в свое преходящее ослепление.
Сердце дона Фабрицио смягчилось: отвращение сменилось состраданием к этим причудливым существам, которые стремились насладиться слабым лучом света, пробивавшимся между мраком родовых схваток и тьмой предсмертных конвульсий. Как можно негодовать против тех, кому безусловно суждено умереть? Ведь это значит поступать, как торговки рыбой, которые лет шестьдесят тому назад осыпали оскорблениями приговорённых к казни на рыночной площади.
И обезьянки, рассевшиеся на пуфах, и эти старые олухи, считавшиеся его друзьями, — все они достойны сожаления, их нельзя спасти, и все они дороги его сердцу, как скот, который мычит в ночи, когда его волокут по улицам на бойню; настанет день, и до слуха каждого из этих людей донесется звон того колокольчика, который он слышал три часа тому назад за собором св. Доменико. Нет, позволительно ненавидеть лишь одну вечность.
И еще надо помнить, что все эти люди, собравшиеся в гостиных, все эти некрасивые женщины, все эти недалекие мужчины, представители обоих ослепленных тщеславием полов, были плоть от плоти, кровь от крови его; лишь с ними он понимал себя, лишь с ними чувствовал себя свободно.
«Может быть, я умнее их; несомненно, образованней, но мы одним миром мазаны; я должен быть связан с ними».
Он обратил внимание на то, что дон Калоджеро заговорил с Джованни Финале о возможном повышении цен на овечьи сыры; в надежде на сей благодатный случай в маслянистых глазках появилось выражение кротости. Теперь его можно покинуть без угрызений совести.
До этой минуты все возраставшее раздражение придавало ему силы; теперь с разрядкой пришла усталость, — было уже два часа ночи. Он искал место, где можно было посидеть спокойно, вдали от людей, которых любил, как братьев, но которые тем не менее ему наскучили. Он вскоре нашел его в маленькой, тихой, хорошо освещенной и пустой библиотеке.
Он посидел там, затем встал, чтоб выпить воды из графина на столике.
«Одна лишь вода по-настоящему хороша», — подумал он, как подлинный сицилиец, и даже не обтер капель, оставшихся на губах. Снова уселся; библиотека нравилась ему, он скоро почувствовал себя здесь уютно: как все плохо обжитые комнаты, она была безличной и не противилась тому, что он повел себя здесь как хозяин. Понтелеоне, разумеется, не такой человек, чтобы тратить здесь попусту время.
Князь принялся разглядывать висевшую перед ним картину, отличную копию «Смерти праведника» Греуза; старец умирал у себя в постели, среди пустых пышных складок белоснежного белья, окруженный убитыми горем внуками и внучками, поднимавшими руки к потолку. Девушки были изящны и бесстыдны, беспорядок их одежд свидетельствовал скорее о легкомысленности поведения, чем о горе; было ясно, что именно они являли собой подлинный сюжет картины. И все же дон Фабрицио с минуту удивлялся тому, что Дьего соглашался постоянно иметь перед глазами это печальное зрелище. Затем он успокоился, подумав, что тот в лучшем случае бывает здесь не чаще одного раза в год.