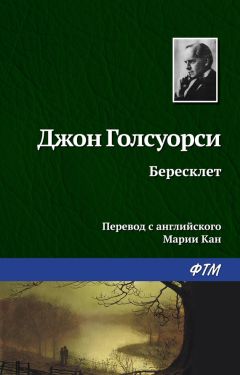Джон Голсуорси - Темный цветок
— Вы вовсе не стары; вы совсем молодой.
Вне себя, с гулко бьющимся сердцем, все еще глядя в сторону, он глухо спросил:
— А где Оливер?
Она выпустила его руку.
— Оливер? Я его ненавижу.
Не решаясь оставаться рядом с ней, он начал ходить из угла в угол мастерской. А она провожала его своим удивительным взором, и отсветы огня плясали на красном платье. Что за необычайная уверенность! Что за сила созрела в ней за эти месяцы! Неужели он выдал себя, открыл ей, что подвластен этой силе? И неужели все это родилось из одного мгновения в темном коридоре, из одного цветка, вложенного ему в ладонь? Почему он тогда не заговорил с ней сердито, не сказал ей, что она глупая маленькая фантазерка? Одному Богу известно, что она теперь насочиняла! Но кто мог подумать… кто мог бы предвидеть? И он опять решительно вернул свои мысли к одной фразе: «Она еще ребенок, она еще только ребенок!»
— Ну, так как же, — повторил он, — вы расскажете мне, как вы жили в Ирландии?
— О! Скучала, и все, все было скучно без вас.
Это было сказано без колебаний, без смущения, и он мог только вымолвить в ответ:
— Значит, вам недоставало наших уроков рисования!
— Да. Можно мне завтра прийти?
Тут-то бы как раз и сказать: «Нет! Вы неразумный ребенок, а я старый дурак!» Но у него недостало смелости и ясности мыслей, да и решимости! И, ничего не ответив, он подошел к двери зажечь свет.
— О нет! Пожалуйста, не надо! Так гораздо лучше.
Затемненная комната, окна, расцвеченные голубыми сумерками, лихорадочный блеск пламени, смутные темные пятна на гипсе и бронзе — и одна эта светом рдеющая фигура перед камином! А ее голос чуть жалобно продолжал:
— Вы не рады, что я вернулась? Мне вас оттуда плохо видно.
Он возвратился в круг света перед камином, и она тихонько, удовлетворенно вздохнула. Потом ее юный спокойный голос отчетливо произнес:
— Оливер хочет, чтобы я вышла за него замуж, но я, разумеется, не согласна.
Он не осмелился спросить: почему же? Он не осмелился произнести ни слова. Опасность была слишком велика. И тут-то последовали ее удивительные слова:
— Вы же знаете, почему. Разумеется, знаете.
Нелепо, почти стыдно было понимать смысл ее слов. И он стоял и глядел перед собой, не произнося ни слова, а в груди у него стыд, ужас, гордость и безумное ликование смешались и кипели одним небывалым чувством. Но он только сказал:
— Пойдемте, дитя мое; мы с вами сегодня оба что-то не в себе. Да, пойдемте в гостиную.
IX
После ее ухода, вернувшись снова в темноту и безмолвие мастерской, он долго сидел перед камином, чувствуя полное смятение. Почему он не может быть таким, как все эти животные в образе мужчины, которые преспокойно пользуются дарами богов? Ему казалось, что в пасмурный ноябрьский день кто-то раздвинул щелку в трезвых шторах неба, — а там, нежданный, стоит Апрель: белый пышный яблоневый цвет, лиловая тучка, радуга, трава, ослепительно зеленая, сияние, льющееся Бог весть откуда, и такая звенящая радость жизни, что сердце замирает от страсти. Вот, оказывается, каким колдовским, пьянящим очарованием завершился этот год его тоски и тревоги! Немного Весны, нечаянный подарок в разгар его Осени. Ее губы, ее глаза, волосы; ее трогательная привязанность; и сверх всего — хоть в это невозможно поверить — ее любовь. Не любовь, вероятно, а просто детская фантазия. Но на крыльях фантазии это дитя улетит далеко, чересчур далеко — недаром вся она страсть и трепет под тонким налетом смешного «взрослого» хладнокровия.
Снова жить, погрузиться опять в море молодости и красоты, еще раз пережить Весну, избавиться от ощущения, что все уже позади, кроме трезвой рутины семейного счастья; снова еще раз испить блаженство в любви юного существа, вернуть себе муки и желания, надежды и страхи и любовные восторги молодости — от всего этого поневоле закружится голова даже у самого порядочного человека…
Стоило закрыть глаза, и он видел перед собой ее в отблесках огня, играющих на ее красном платье; снова испытывал блаженную дрожь, как в то мгновение, когда она, войдя, прижалась к нему в искусительном, полудетском порыве; чувствовал, как глаза ее манят, притягивают к себе! Она просто колдунья, сероглазая, русоволосая ведьма во всем, даже в этом пристрастии к красному цвету. И у нее есть ведьмовская власть зажигать лихорадку в крови. Он теперь дивился, как сумел не упасть перед ней на колени тогда же, в кругу света от камина, не обнял ее и не спрятал лицо в этой красной ткани. Почему не сделал он этого? Но думать не хотелось: он знал, что начни он думать, и его будет разрывать на части, тянуть в разные стороны между разумом и страстью, жалостью и желанием. А он всеми силами души стремился лишь к одному — сберечь это упоительное сознание, что он уже глубокой осенью пробудил любовь в сердце Весны. Невероятно, что она может испытывать к нему такие чувства; но и ошибиться было невозможно. К Сильвии она опасно переменилась; она смотрела на нее там в гостиной с холодным раздражением, таким пугающим еще и оттого, что всего три месяца назад она была с ней сама нежность. А прощаясь, шепнула, трепетно подавшись к нему, как прежде, словно запрокидывала голову для поцелуя: «Значит, мне можно прийти? И, пожалуйста, не сердитесь на меня; я ведь не виновата». Чудовищно в его возрасте позволять молодой девушке любить себя — подвергать опасности ее будущее! Чудовищно, по всем канонам порядочности и благородства! Но ее будущее?.. При таком характере… с такими глазами… с ее происхождением, и таким отцом, и таким образом жизни? Нет, только не думать, ни в коем случае не думать!
Тем не менее он думал, и по нему это было сильно заметно: после обеда Сильвия, положив руку ему на лоб, сказала:
— Ты слишком много работаешь, Марк. Тебе нужно больше бывать на воздухе.
Он крепко сжал ее пальцы. Сильвия! Нет, нет, думать просто нельзя! Но он воспользовался ее словами и сказал, что пойдет подышать немного свежим воздухом.
Он шагал быстро — чтобы избавиться от мыслей, — и сам не заметил, как дошел до реки недалеко от Вестминстера, но тут, повинуясь внезапному душевному толчку, быть может, в поисках противоядия, свернул за громадой собора в узкую улочку, где не был с той летней ночи, когда он потерял то, что было ему тогда дороже жизни. Здесь жила она; вот этот дом, эти окна, мимо которых он ходил, украдкой поглядывая на них с такой тоской и болью. Кто живет в нем теперь? И ему опять привиделось лицо из его прошлого — темные волосы, темные, мягкие глаза, нежный, серьезный взгляд. Оно не упрекало его, ибо это новое чувство было иным, чем та, прежняя любовь. Лишь однажды дано человеку испытать любовь, которая превосходит все, любовь, которая и в бесчестии, горе и смятении духа одна содержит в себе всю истинную честь, радость и душевный покой. Судьба отняла у него эту любовь, сорвала ее, как жгучий ветер срывает расцветший, совершенный цветок. А это новое чувство — лишь лихорадка в крови, лишь горячечная фантазия, погоня за Юностью, за Страстью. Впрочем, что ж! И оно достаточно реально. И в одно из тех мгновений, когда человек возвышается над самим собою и смотрит на жизнь свою сверху и со стороны, Леннан представил себе легкую тень, мятущуюся туда и сюда; соломинку, кружимую вихрем, малую мошку в дыхании бешеного ветра. Где источник этого тайного могучего чувства, налетающего внезапно из тьмы и схватывающего вас за горло? Почему оно приходит именно в этот миг, а не в другой, влечет в одну сторону, а не в другую! Что ведомо о нем человеку, кроме того, что оно заставляет его поворачиваться и кружиться, точно бабочку, опьяненную светом, или пчелу — благоуханием ароматного темного цветка; что оно превращает в смятенную, покорную живую игрушку своих прихотей? Разве однажды оно не привело уже его на грань смерти; неужели же опять оно обрушится на него со всем своим сладким безумием и пьянящим ароматом? Какова же его природа? И для чего существует оно? Зачем эти приступы одержимости, которым нет удовлетворения? Или цивилизация настолько опередила человека, что натура его оказалась втиснутой в чересчур тесную обувь, подобно ножкам китаянок? Что же оно такое? И для чего существует?
И он еще быстрее зашагал прочь.
Улица Пэл-Мэл снова вернула его к действительности, этой подделке под Действительное. Здесь на Сент-Джеймс-стрит находился клуб Джонни Дромора; и, опять повинуясь необъяснимому порыву, он толкнул вертящуюся дверь и вошел. Справляться не было нужды, ибо по вестибюлю шел сам Джонни Дромор: после обеда — за карты. Лоснящийся загар — дар здоровой и сытой жизни на свежем воздухе — покрывал его щеки густо, как сливочный крем. В глазах был тот особый блеск, какой свидетельствует об избытке жизненных сил, и что-то предпраздничное во взгляде, в голосе, в жестах выдавало намерение провести вечерок в свое удовольствие. У Леннана мелькнула издевательская мысль: а что, если сказать ему?