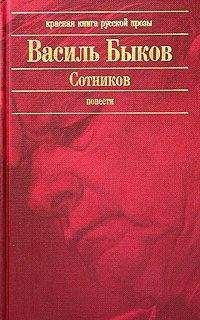Василий Быков - Знак беды
– Бурт так и не закончили. Мне сегодня эти не дали. Да и хлеба нет, молоть надо, – начала она возле печи.
– Картошка подождет. Не морозит еще.
– Ну а хлеб? Есть ведь нечего.
– Завтра, – сказал Петрок.
После еды в тепле его совсем разморило от усталости, и уже не было силы браться теперь за дело. Хотя бы и за самое срочное.
– А если завтра выгонят обоих? На мост или на картошку? Или еще куда? – наседала Степанида.
– Не выгонят.
– Как это не выгонят! Что, он тебе дал освобождение? Напьется и снова приедет, будет цепляться.
Может, и приедет, и будет цепляться, угрожать, но Петрок так вымотался за эти страшные дни, что уже не осталось никаких сил что-нибудь делать. Поев, он свернул цигарку, прикурил ее от уголька с загнетки и побрел в запечье.
– Я сейчас...
Не снимая опорок, прилег и, не докурив цигарку, уснул. Казалось, только сомкнул веки, как во дворе сильно залаял забытый им Рудька, послышались чьи-то шаги. Петрок подхватился со сна и с тяжелой головой метнулся к окну. Во дворе за колодцем кто-то привязывал к тыну тонкогрудую гнедую лошадь, и, когда обернулся к хате, Петрок узнал Колонденка – в шинели, с винтовкой за узкой сутулой спиной.
– Чтоб вы пропали! – в отчаянии выругался Петрок, уже чувствуя, какая нужда привела этого полицая на хутор.
Рудька все лаял – сначала на лошадь, которая сторожко стригла ушами, не сходя, однако, с места, потом напустился на Колонденка. И тот вдруг остановился, хватаясь рукой за винтовку. Петрок, как был, без кожушка и без шапки выскочил на ступеньки и закричал на собачонку:
– Рудька, прочь! Прочь ты, щенок! Я тебе дам!.. Не надо его стрелять, он не укусит! – заговорил он, обращаясь к полицаю, который уже загонял в патронник патрон. Рудька, видно, понял наконец, что ему угрожает, и скрылся за углом дровокольни. Он еще полаял оттуда, но уже без большой злости, и Колонденок забросил винтовку на узкое, обвисшее плечо.
– За водкой приехал, – просто объявил полицай, не меняя постного выражения на бледном понуром лице.
– Так я же отдал! Недосека взял две бутылки, – заволновался Петрок. – Что у меня, фабрика?
– Гуж сказал: еще две бутылки. Иначе завтра будет репрессия.
– Что будет? – не понял Петрок.
– Репрессия. Ну, это, будет тебя вешать. Или, может, стрелять? – усомнился Колонденок. – Нет, вешать, кажется. Ага, вспомнил – вешать. Репрессия – значит повешение.
– От чудеса! – развел руками Петрок. – Так где же я возьму? Я ведь отдал. Недосека же...
– Тогда бери шапку.
– Зачем?
– Пойдешь в местечко. Гуж сказал: не даст водки – самого за шиворот и сюда. На репрессию.
– Да?..
Ну что еще можно было сделать с этими злодеями? Петрок помолчал, подумал и почти с предельной очевидностью понял, что и водка – не выход. Нет, не спасет его самогон, как бы еще не погубил, и скорее, чем что другое.
Он молча ступил опорками на сырую землю двора, в открытую, не таясь, прошлепал на дровокольню и вытащил из-за ольховой поленницы третью бутылку.
– Ну вот! А говорил, нет! – зло взвизгнул Колонденок и выхватил из его рук бутылку. – А еще?
– Нету! Ей-богу, больше ничего нету. Вот хоть обыщите. Выгнал, знаете, мало, запарка неудачная...
– Ну ладно, – подумав, смягчился Колонденок. – Отдам, а там пускай сам решает.
Он отвязал лошадь и вскочил на нее поперек животом, перебросил на другую сторону длинную ногу. Лошадь резво побежала к большаку, а из огорода во двор вышла Степанида с корзиной картошки в руках.
– Опять за водкой?
– Опять, – невесело подтвердил Петрок.
– А я что говорила? Теперь начнут ездить...
– Ну уже кол им в глотку! Больше нету.
– Тебе же оттого будет хуже.
– А уже хуже не будет, – запальчиво сказал Петрок, не чувствуя, однако, уверенности в своих силах. Правда, в душе он не хотел верить в плохое, все думал: а может, еще обойдется...
Глава двадцатая
Под вечер, когда стало смеркаться, покряхтев немного и побранившись с женой, Петрок нагреб в ночовке высушенной на печи ржи и пошел в истопку. Надо было молоть – на хлеб, да и на водку, потому что стало уже ясно, что без того и без другого на свете прожить невозможно.
Жернова были стародавние, с тонкими, стертыми и стянутыми обручем камнями, мололи они чересчур крупно, только и радости, что крутить их было нетрудно. И Петрок помалу крутил за ручку, изредка подсыпая тепловатого зерна из ночовок, и неотвязно думал о разном, больше плохом, что теперь, словно мошка летним днем, все время вертелось в его голове.
Война, конечно, никому не в радость, считай, для каждого горе, он если это горе из-за чужестранца, немца, так чему тут удивляться, это как мор, чума или язва, тут на кого обижаться? Ну а если эта чума из-за своих, деревенских, местных людей, известных тебе до третьего колена, которые вдруг перестали быть теми, кем были всю жизнь, а стали зверьем, подвластным только этим оккупантам, немцам, тогда как понимать их? Или они вдруг превратились в зверье и вытворяют такое по принуждению, подавив в себе все человеческое?! Или, может, они и не были людьми, только притворялись ими все годы до войны, которая вдруг разбудила в них зверя? По натуре своей Петрок был человеком тихим, таким, как и большинство в Выселках: в меру осторожным, уважительным к другим, немного суеверным и набожным. Такими же были и все его предки. Дед, бывало, никогда не позволял себе сказать грубое слово не только кому из близких, но и сельчанам, местечковцам или обругать какую-нибудь животину, как это повелось сейчас, когда даже подростки и те все с матюгом да криком к коню или корове. Упаси бог, чтобы он сделал кому во вред или взял не свое со двора или с поля. А теперь?.. Хорошо, что не дожил он до такого позора, не увидел, что творится в мире, на этой войне...
Сначала, как только появились немцы, Петрок наведывался в местечко, чтобы добыть соли, керосина, спичек, взглянуть на «новый порядок», а главное – узнать, что делается в мире, и прикинуть, как оно будет дальше. Помнится, как-то возле пожарной собрались в тени под кленом несколько мужиков, сидели курили. Разговор был невеселый – все о том же. Несколько дней назад в район приехал важный немецкий чин в рыжем френче, с красной повязкой на рукаве, говорили: назначил новое руководство из местных. Мужикам, в общем, это понравилось, что руководство будет не из немцев, не присланное, из чужих, а именно из своих, местных. Немного погодя новое начальство обосновалось в каменном здании бывшего райисполкома, и там уже видели немецкого переводчика, бывшего учителя, незаметного холостяка Свентковского, который несколько лет квартировал возле моста у еврейки Ривы. Главным полицаем сразу стал Гуж, который перед тем только появился в местечке. Вскоре надел на рукав полицейскую повязку и Антось Недосека, что очень удивило местечковцев, потому что никто из них не мог сказать ничего плохого об этом человеке. Третьим полицаем многие возмущались открыто, так как давно его не любили в Выселках, но Потап Колонденок, наверно, уже привык к косым взглядам сельчан и не слишком обращал на них внимание. Теперь он считался лишь с немцами и своим непосредственным начальником, старшим полицейским Гужом. А Гуж? Взялся за старое или новое, разве поймешь? Десять лет его не было тут – проходил науку в далеком Донбассе, на кого там выучился? Но теперь вот открыто упивается данной ему над людьми властью, вместе с немецкой командой уничтожил местечковых евреев, разграбил их имущество и бесстыже фуфырится в рыжей кожанке, которую недавно еще носил заведующий райземотделом Ефим Кац.
Вот тебе и свое руководство, на которое так уповали местечковцы!
Но как же так можно, думал Петрок, размеренно покачиваясь возле жерновов в такт хода ручки – взад и вперед. Было совсем темно, коптилку не зажигали, Степанида берегла керосин, и он не хотел с ней препираться, можно смолоть и впотьмах. Как же так можно, мысленно переспрашивал себя Петрок, чтобы свои своих! Ведь в деревне испокон веков ценились добрые отношения между людьми, редко кто, разве выродок только, решался поднять руку на соседа, враждовать или ссориться с таким же, как сам, землепашцем. Случалось, конечно, всякое, не без того в жизни, но чаще всего из-за земли – за наделы, сенокосы, ну и скотину. Но теперь-то какая земля? Кому она стала нужна, эта земля, давно всякая вражда из-за нее отпала, а покоя от того не прибавилось. Люди распустились. Раньше молодой не мог позволить себе пройти мимо старика, чтобы не снять шапку, а теперь эти вот молодые снимают другим головы вместе с шапками. И ничего не боятся – ни божьего гнева, ни суда человеческого. Как будто так заведено издревле, как будто на их стороне не только сила, но еще и правда. А может, им и не нужна правда, достаточно кровожадной немецкой силы? На правду они готовы наплевать, если та будет мешать им в их кровавых злодействах. Однако правда им все же мешает, подумал Петрок, иначе бы они не оглядывались каждый раз на немцев, не заливали бы совесть водкой, не хватались бы за винтовку, когда не находят веского слова в стычках с деревенскими бабами. Мужики-то с ними не спорили, мужики молчали.