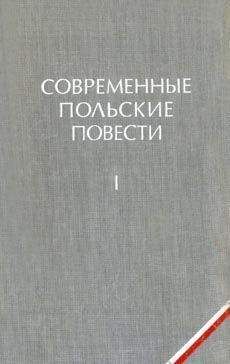Константин Симонов - Живые и мертвые
И если бы спросить сейчас Синцова, что больше всего успокаивало его душу после пережитого в окружении, он бы, наверное, ответил, что ему приносили душевное успокоение именно эти вписанные в мирный пейзаж приметы армии и воинского порядка. Эти приметы как бы обещали: то, чему он был свидетелем, больше не повторится, армия встала здесь, встала давно и прочно и уже не отступит перед немцами.
Вспоминая о немцах, Синцов хотел сейчас только одного: чтобы мы сделали с ними все, что они сделали с нами, – так же гнали их, как они гнали нас, так же бомбили их и расстреливали с воздуха, так же обходили и давили танками, так же окружали и душили без еды и патронов, так же вели в плен и так же не давали пощады. Этого он хотел, и хотел с такой силой, что рассмеялся бы в лицо человеку, который посмел бы сказать ему сейчас, что когда-нибудь месть его будет утолена, а ненависть пройдет.
Он ехал и думал о нашем будущем наступлении: ведь будет же оно когда-нибудь!
А рядом с этим было и другое чувство – чувство отдыха и бездумного счастья. За два с половиной месяца он нагляделся и на землю, и на небо, и на сосны и березы, и на лесные поляны и прогалины, и на этот густой ельник, подбегавший сейчас к дороге. И тишина вокруг порой стояла такая, что слышно было дыхание... Но, видно, все-таки там, в тылу у немцев, все это было не так и не то: и не те березы, и не те сосны, и не та земля, и даже не та тишина...
А сейчас все это, мелькавшее перед глазами, радовало и приносило счастье. Счастьем было все: машина, на которой они неслись, метавшиеся по ветру знакомые льняные вихры Хорышева, высунувшегося из кабины переднего грузовика, синие елки, желтые березы, перелески и поля, дымки из труб, люди, зенитки, свои самолеты в небе, обрывки песни, долетавшие с передней машины.
Синцов купался во всем этом счастье, жадно глядел на все слезящимися от ветра счастливыми глазами и беспричинно улыбался, чувствуя, как осенний холодок забирается за ворот шинели.
И точно так же, как он, иногда молча улыбаясь своим мыслям, в замыкавшей колонну «эмке», на заднем сиденье, между майором Даниловым и маленькой докторшей, ехал и глядел в боковое стекло батальонный комиссар Шмаков. Иногда, отрываясь, он коротко взглядывал вперед, на широкие спины ехавших на переднем сиденье пограничников – шофера и ординарца.
У Шмакова если и не вовсе исчезла, то, во всяком случае, выветрилась утренняя обида из-за сдачи трофейного оружия; выветрилась и потому, что это было уже в прошлом и сейчас не казалось таким важным, и потому, что, когда дело дошло до сдачи оружия, бойцы отнеслись к этому спокойней, чем думал Шмаков. А так как главным, из-за чего он лез в драку, была боязнь обидеть людей, то и на душе у него как-то само собой отлегло.
Маленькая докторша, за все окружение ни разу не охнувшая, вдруг сегодня утром почувствовала себя нездоровой и всю дорогу спала, горячим, лихорадочным комком завалясь в уголок, а Шмаков ехал, глядя в окно, и с наслаждением курил одну за другой папиросы «Казбек» из портсигара, которым всякий раз предупредительно щелкал перед ним Данилов.
Сперва, когда пограничник предложил ему сесть в «эмку», Шмаков хотел отказаться – так сильно в нем еще кипела обида. Потом, когда они уже сели и поехали, он хотел продолжить свой спор с Даниловым насчет настоящей бдительности и напрасных подозрений, но отложил, потому что они были не одни: с ним была докторша, а с майором двое бойцов. А еще через полчаса ему и самому расхотелось спорить.
Чем дальше ехали они, тем больше и больше росло в его усталой душе и усталом теле чувство радости и даже умиления оттого, что они каким-то чудом вышли живыми и целыми после всего, что было, вышли с боем и с честью.
Наконец на исходе первого часа езды он окончательно перестал злиться на Данилова и прервал молчание. Оно установилось в машине по его инициативе, но его же первого и начало тяготить.
– Далековато у вас фронтовые тылы, – сказал Шмаков.
– Почему далековато? – возразил Данилов, довольный тем, что понравившийся ему утром своей честной горячностью батальонный комиссар наконец перестал обижаться. – Нормально! Фронт большой, мы на фланге. Если тыловые учреждения ближе к одному флангу разместить, от другого далеко будут.
– Ну да бог с ними, с тыловыми учреждениями, – сказал Шмаков, давая понять этим возгласом, что про тылы – это просто так, чтоб с чего-то начать. – Скажите лучше, как Москва живет. Сильно ее изуродовали?
– Сам не был. Но два дня назад слышал от очевидца. Разрушения небольшие. Не допускают!
– Вот это замечательно! – обрадовался Шмаков. – Знаете, когда я попал на фронт в середине июля, то сам москвичей, да и не только москвичей, успокаивал: нет, мол, не летают, а будут летать – не пустим! А потом за время окружения начитался разных листовок... Кому их все несут, когда найдут? Комиссару... Вот и начитался! – усмехнулся он. – И порой так страшно за Москву бывало! По их словам, камня на камне не оставили. Понимал, конечно, что брешут, но до какой степени?
– До очень большой степени, – сказал Данилов. – Говорят, что и двух процентов разрушений нет в Москве.
– Да, это замечательно! – радостно повторил Шмаков.
Начав с вопроса о Москве, он, теперь уже не останавливаясь, стал засыпать Данилова разными другими вопросами: о тыле, о фронте, о потерях, о настроениях – обо всем, что приходило в голову и о чем он еще не успел наговориться за сегодняшнюю, почти бессонную ночь в танковой бригаде.
– Вы меня прямо, можно сказать, на приступ взяли, даже в боевую готовность не дали себя привести, – наконец не выдержал и улыбнулся неулыбчивый Данилов.
– Ничего, терпите! – рассмеялся Шмаков. – Я дольше терпел. За два с половиной месяца, кроме фашистской брехни, ни одного печатного слова не видел!
Он задал Данилову еще несколько вопросов, последний – про то, как долго идет письмо на фронт и с фронта. Все люди – человеки, всех волнует одно и то же...
И вдруг, когда, ответив на последний вопрос, Данилов, сдвинув фуражку на нос и почесывая затылок, ожидал следующего, он вместо голоса услышал негромкий, усталый храп. Шмаков, как подрубленный, заснул на полуслове. Счастливая усталость наконец свалила и его...
– А ну, вылезайте, вылезайте, просыпайтесь!..
Шмаков слышал сквозь сон голос, но никак не мог проснуться.
– Да просыпайтесь же!..
Он открыл глаза. Машина стояла. Шофера и ординарца впереди не было, докторши тоже не было, а Данилов, стоя снаружи и открыв дверцу, с силой тащил его за руку.
– Давайте в кювет!.. Самолеты! – сердито, но, впрочем, без особого волнения кричал Данилов.
Шмаков вылез на дорогу и соскочил в кювет. Докторша уже сидела там и, виновато улыбаясь, терла кулаком глаза. Спросонок она не могла представить себе, сколько они проехали и сколько она спала.
Кругом был лес. Вся колонна остановилась и замерла. Людей на машинах не осталось – они успели разбежаться по обочинам. Только впереди двое или трое еще перебегали дорогу.
С запада шли самолеты; они были высоко и близко, но еще не над самыми головами.
– Может быть, наши возвращаются? – главным образом чтобы успокоить докторшу, неуверенно сказал Шмаков, хотя знакомое, тягучее, прерывистое гудение уже говорило ему, что это не так, а докторша вовсе не волновалась.
– А вот сейчас увидим, – иронически сказал Данилов. – Может, присядем?
Он с усмешкой посмотрел на Шмакова, первый присел на корточки и, чуть-чуть коснувшись при этом рукой земли, аккуратно стряхнул приставшие к пальцам песчинки.
Прошло еще несколько томительных мгновений; самолеты были немецкие, но теперь они находились уже прямо над головой и если и могли сбросить бомбы, то мимо. Шмаков сказал об этом Данилову.
– Да, если не развернутся, заметив нас, – ответил Данилов. – Лучше подождать еще три-четыре минуты.
Но самолеты не разворачивались; они шли в прежнем направлении и на прежней высоте, и откуда-то спереди по ним стали не часто, но довольно точно бить зенитки. Белые шарики зенитных разрывов сначала растаяли несколькими облачками ниже самолетов, потом появились сверху и сбоку. Потом один из самолетов задымил и по косой, все гуще дымя, пошел в сторону. А белые шарики разрывов опять запрыгали в небе, но теперь уже далеко позади самолетов.
– Ах ты, мимо! Чего они смотрят? – разочарованно вскрикнула докторша и первой выскочила из кювета. Выражение счастья с детской быстротой сменилось на ее лице выражением досады.
– Ишь какая жадная! Одного наказали – и то хлеб! – сказал Данилов. – Ну что ж, можно и по машинам!
Он снял свою зеленую пограничную фуражку и стал махать, чтобы люди садились.
– Знаете что... – сказал Шмаков, после появления немецких самолетов вышедший из состояния безоблачной радости и снова почувствовавший свою ответственность за людей. – Я вас покину. Поеду на грузовике где-нибудь в центре колонны. Полковой комиссар – впереди, вы – позади, а я в центре. Так лучше будет. А товарища доктора оставлю вам на попечение, – улыбнулся он и побежал вдоль машин, на которые грузились люди.