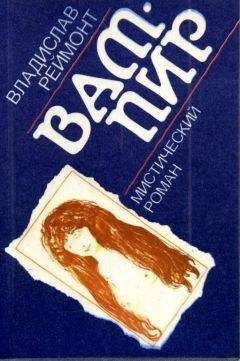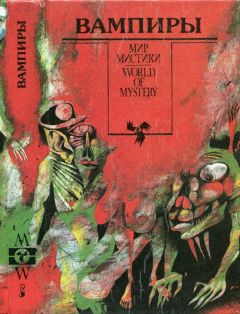Владислав Реймонт - Мужики
Ох, и смеху же было! Ясек на каждом шагу спотыкался, так как ему подставляли ногу, — и бац, как колода, на пол! А Юзя так похоже шевелила губами, нюхала воздух и замирала на месте — ну, настоящий живой заяц!
Потом играли в "Перепелку". Перепелкой была Настка, и она так ловко увертывалась, так быстро носилась по избе, что ее никто поймать не мог, пока она сама не полезла в руки, чтобы можно было попрыгать в кругу.
— После "Перепелки" затеяли игру в "Свинку", а под конец кто-то из дружек, — кажется, Томек Вахник, — изображал журавля. Голову прикрыл платком, а вместо клюва высунул из-под платка палку и курлыкал, как настоящий журавль. Юзька, Витек и другие подростки гонялись за ним и дразнили:
Клу, клу, клу.
Твоя мать в аду.
Что она делает?
Бесам клецки варит.
А за что ее туда?
Своих деток извела.
Потом с визгом разбегались и прятались по углам, как куропатки, а он их догонял, клевал и бил крыльями.
Изба ходуном ходила от смеха, криков и беготни.
Добрый час они так забавлялись, потом старший дружка знаком потребовал тишины.
Женщины ввели из спальни Ягусю, у которой голова была закрыта куском белого полотна, усадили ее посреди избы на квашне, покрытой периной. Подруги сделали вид, что хотят ее отбить, а бабы не давали. Наконец, девушки встали против нее тесной толпой и заунывно, со слезами в голосе, запели:
С головы веночек сняли —
Жизни девичьей конец.
Мы тебя не отстояли —
Надевай чепец!
И тогда полотно сняли.
Ягуся была уже в чепчике, надетом на толстые, закрученные косы. Но, смеющаяся, веселая, она блестящими глазами обводила всех и казалась еще краше в этом уборе.
Медленно заиграла музыка, и все — старые, молодые, даже дети — запели "Хмель", сливая голоса в один мощный, радостный хор. А когда кончили петь, с Ягусей по очереди танцевали уже только замужние женщины. Подвыпившая Ягустинка, уперев руки в бока, стала против нее и пропела:
Эх, кабы я раньше знала.
Что пойдешь ты за вдовца.
Свила б я тебе веночек
Из одного яловца![14]
Потом она стала сочинять и другие песенки, еще более колкие и насмешливые.
Но никто уже ее не слушал, так как музыканты грянули изо всей мочи, и народ пошел плясать. Загремело вдруг, словно сто цепов молотило на гумне, заколыхалась в избе тесно слитая толпа. Танцевали вплотную пара за парой и все ускоряли темп. Разлетались кафтаны, танцоры пристукивали каблуками, размахивали шляпами, время от времени кто-нибудь запевал, а девушки подхватывали припев и скользили все быстрее, покачиваясь в такт и кружась в такой быстрой, задорной, самозабвенной пляске, что уже и не распознать никого было в толпе. Прозвенит дрожащая нота скрипки, и сто каблуков стукнут о пол, сто голосов вскрикнут громко, сто человек закружатся вихрем на месте так, что шум пойдет по избе от мелькающих в воздухе пестрыми птицами юбок, кафтанов, платков. Прошло полчаса, час, а они все танцевали без передышки, без устали, земля гудела, стены тряслись, а веселье все росло, поднималось, как вода в реке от ливней.
После танцев начались различные обряды, которые принято совершать после того, как надели на молодую бабий чепец.
Прежде всего Ягуся должна была платить всем замужним женщинам "вкупные", чтобы они ее приняли в свой круг. Потом, один за другим, пошли другие обряды. Напоследок парни сплели длинный жгут из необмолоченной пшеницы. Держась за него, дружки обступили Ягусю широким кругом, никого не подпуская к ней. Кто хотел с ней танцевать, должен был силой прорваться в середину круга и там плясать, несмотря на то, что его со всех сторон стегали соломенными жгутами.
В заключение мельничиха и жена Вахника начали собирать "на чепец". Первым войт бросил на тарелку золотую монету, а за ним другие, — звонким градом посыпались серебряные рубли, полетели бумажки, как листья осенью.
Собрали триста с лишним злотых — деньги немалые. Для Доминиковой это были пустяки, она не гналась за даровщинкой, своего было вдоволь. Но то, что все охотно жертвовали для ее Ягуси, так ее растрогало, что она не могла удержаться от слез. Крикнула сыновьям, чтобы принесли водки, и начала сама потчевать всех, чокаться и, плача, целоваться с кумами и кумовьями.
— Пейте, соседи, пейте, люди добрые, братья родные… На сердце у меня словно весна. За Ягусино здоровье! Ну, еще одну рюмочку!..
За нею кузнец обносил всех, а Шимек с Енджиком — своим чередом, потому что очень много было народу. Ягуся снова всех благодарила за доброту, а пожилым кланялась в ноги.
Опять зашумела изба, потому что рюмки за рюмками шли вкруговую. Лица раскраснелись, глаза блестели, сердца рвались к сердцам — по-братски, по-соседски. Эх, один раз живешь на свете! Только и радости у человека — повеселиться с друзьями и забыть обо всем! Умирает человек в одиночку, а веселиться надо в компании! И веселились мужики, пили и болтали наперебой, каждый свое, не слушая других, но это не беда, — чувствовали все одно и то же, одна и та же радость их объединяла.
А у кого горе, тот оставь его на завтра, сегодня забавляйся, радуйся, что ты с друзьями, потешь душу! Как мать-земля летом родит, а осенью отдыхает, так и человеку полагается отдыхать осенью после того, как наработался в поле. Когда стоят у тебя пышные стога и амбары ломятся от полновесного, как золото, зерна, ожидающего обмолота, — тогда можно и погулять в свое удовольствие, в награду за летние труды, за страду и хлопоты.
Так рассуждали одни, а другие изливали соседям свои горести и заботы. Были и такие, у кого не только свету, что в окне, — эти собрались вокруг старика Шимона и беседовали о былых временах, о новых невзгодах, налогах, о делах всей общины и, понижая голос, обсуждали темные делишки войта.
Борына не подсаживался ни к одной из групп, ходил между гостями, а глазами неотступно следил за Ягной, гордый ее красотой. Он часто бросал музыкантам деньги — и кричал, чтобы смычков не жалели, когда они начинали играть тише, давая отдых рукам.
Но вот вдруг загремел обертас, так, что все вздрогнули, и Борына подскочил к Ягне, крепко обнял ее и с места пустился в пляс. Летел вперед, поворачивал, каблуками пристукивал так, что стонали половицы. То вдруг вприсядку пустится, то опять понесется, а за ним другие пары начинали выходить из толпы, петь и плясать все быстрее и быстрее. Казалось, сто веретен, обмотанных разноцветной пряжей, кружатся в избе. Уже нельзя было различить отдельных людей в этой переливчатой радуге, которая качалась, словно под вихрем, играла красками, извивалась все быстрее, все безумнее, так что временами от ветра гасли лампы и в избе становилось темно, только в окна широкой полосой лился лунный свет и, дробясь, рассыпался кипящим серебром в темноте среди толпы танцующих, которая то наплывала бурливой, поющей волной, мелькая и кружась в этом лунном зареве, как хоровод призраков, то скрывалась в непроницаемой тьме, чтобы снова вынырнуть на мгновение у другой стены, где под лунным лучом мерцали образа, и тотчас отхлынуть и потонуть в ночи… Только тяжелое дыхание, топот, вскрики, сплетаясь и обрываясь, глухо звучали в темной избе.
Так тянулась эта пляска сплошной, непрерывной цепью, и конца ей не было. Как только музыка начинала играть новый танец, люди вскакивали, вставали, как высокий бор, и с места неслись ураганом. Громом раскатывался стук каблуков, веселые крики потрясали дом, и пары неслись вперед в шальном упоении, как в бурю, как в смертный бой.
Каких только танцев они не танцевали!
Краковяки, резвые, бурные, сверкающие короткими, звонкими нотами и плясовыми припевами, как вышитый пояс — разноцветными узорами, полные смеха и задора, полные праздничного веселья и сильной, здоровой, дерзкой молодости, забавных шалостей, скачков и кипения молодой крови, жаждущей любви. Эх!
Мазурки, длинные, как межи в поле, раскидистые, как старые деревья, широкие и вольные, как необъятные равнины, тяжеловатые и стремительные, тоскливые и удалые, плавно скользящие и грозные, чинные и своевольные, буйные, как эти мужики, которые, сбившись в кучу, ринулись в пляс так лихо, что, кажется, сотня их может идти против тысячи, весь свет захватить, сокрушить, разнести вдребезги, растоптать и самим пропасть; но еще и там, после смерти, плясать, стучать каблуками и пронзительно, по-мазурски, покрикивать: "Да-дана!"
Обертасы, кружащие голову, порывистые, шаловливые, озорные и меланхоличные, страстные и задумчивые, пронизанные скорбными нотами, безумные, как кипение горячей крови, и полные нежности и любви, налетающие грозовой тучей и полные ласковых голосов, голубых взоров, дыхания весны, ароматов и шелеста цветущих садов. Они — как луга, поющие весною, когда и сквозь слезы прорывается смех, и в сердце звенит радость, и рвется оно за те широкие поля, за те леса далекие, в мечтах стремится в далекий мир и все поет: "Ой, да-дана!"